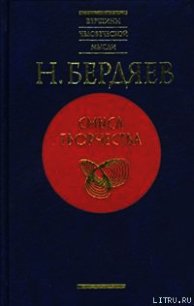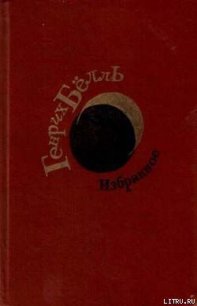Самовольная отлучка - Бёлль Генрих (читать книгу онлайн бесплатно полностью без регистрации txt) 📗
Чтобы избежать пробела, упомяну еще об одном персонаже этой повести, оставшемся в живых, если не считать меня, моего отца, тещи и тестя, – о моем шурине Иоганне. После грешной молодости он и впрямь закалился и очистился в горниле войны и, явившись домой в чине фельдфебеля пехоты, вернулся к религии своих предков (католической), поступил в университет, получил диплом и избрал себе почтенное поле деятельности – торговлю мануфактурой; о своем погибшем брате он и слышать не хочет, поскольку тот был «левым смутьяном». К моей особе также относится с недоверием: ведь на мне лежит клеймо бывшего штурмовика. Из-за той же божественной терпимости я не желаю напоминать ему о сцене с игральными костями в его прежней комнате. Думаю, если я все же решусь напомнить об этой сцене, он испепелит меня взглядом и назовет лжецом. Мою дочь и внучку, равно как зятя и его мать, я не упоминаю среди уцелевших, а вернее, среди живущих, потому что на их счет у меня особые замыслы. Разместив их в порядке моей симпатии к ним, я использую их на последних страницах этого идиллического альбома, как камни свода для часовни. Мне придется их немножко обтесать и стилизовать – тогда они станут на место и украсят все сооружение.
Моя теща настояла на скорейшей свадьбе не из каких-либо меркантильных соображений, хотя она постоянно твердит, что была очень рада «пристроить дочку за хорошего человека». Просто теща позаботилась о том, чтобы легализовать и официально санкционировать то положение, которое она именовала «их явным тяготением друг к другу» и их «бесконечными уединениями». Она честно признавала, что боится, как бы ее не наградили «внебрачными или скороспелыми внуками, которые родились подозрительно быстро после свадьбы». Поскольку я был совершеннолетний, а фотокопировщики великолепно работали, выполняя лозунг: «Каждому немцу – справку об арийском происхождении», и все документы можно было достать быстро и за умеренную плату (кроме свидетельства о моем крещении), нам удалось после поспешных и печальных похорон моей матери поспешно сыграть свадьбу, от которой даже сохранился фотоснимок. Гильдегард кажется на этом снимке меланхоличной, зато достойны восхищения иронически ухмыляющиеся физиономии обоих шуринов. Сохранилось также брачное свидетельство, выданное отделом регистрации браков, со свастиками и гербовыми орлами; в нем я именуюсь «студентом филологического факультета, ныне проходящим службу». Наш союз с Гильдегард по ее желанию был скреплен церковью, и у меня до сих пор лежит церковное свидетельство с печатью прихода Иоганна-крестителя. Свадебный завтрак состоялся в квартире Бехтольдов («Нет, нет, такое событие надо отметить у нас!»); после Импровизированной кадрили и полонеза Гильдегард и меня отпустили с миром в поспешно снятую меблированную комнату (двадцать пять марок в месяц) вести семейную жизнь, которая должна была длиться двадцать три часа, но растянулась почти на целую неделю. Если юные, а также пожилые читатели сочтут, что для семейной жизни это довольно-таки короткий срок, я позволю себе указать, что многие браки двадцатилетней давности не длились и недели. А чтобы тот факт, что меня арестовали и отправили в совсем другое сообщество не в первый же день, а лишь на седьмой, не показался читателю свидетельством нерасторопности или небдительности тогдашних властей, я должен указать на стойкость всего бехтольдовского клана и моего отца, которые заявили, что мы «отбыли в неизвестном направлении». Мы так и не узнали, кто на нас настучал. Меня арестовали в магазине Батто «Масло – яйца – сыр» на Северинштрассе, где я, облаченный, как и прежде, в серо-зеленые штаны, с хозяйственной сумкой в руках, синей в белую полоску, закупал (уже по карточкам) масло и яйца на завтрак (свежие булочки лежали в сумке), а Гильдегард в это время прибирала нашу комнату. Я был «как идиот» погружен в блаженно-сомнамбулическое состояние, и двое молодцов в серо-зеленых мундирах, внезапно схватившие меня за руки, показались мне дурным сном, а крики милой продавщицы у Батто демонстрацией симпатии (что, впрочем, так и было). Я оказал сопротивление и выкрикивал (вопреки своей привычке) ругательства, а на позднейших допросах не только не раскаялся, но даже проявил нечто такое, что в официальных бумагах красиво назвали «строптивостью и неповиновением». Те месяцы, что мне оставалось провести в моем казарменном сообществе, я просидел в тюрьмах и карцерах всевозможных видов, в том числе несколько дней в кёльнской городской тюрьме – именно оттуда я и отправил письменное ходатайство о зачислении меня в СА. Ангела я так больше и не увидел, Гильдегард встретил только через год и девять месяцев. Нам разрешили послать друг другу несколько писем, проверенных цензурой, но письма, проверенные цензурой, для меня уже не письма; я признаю их только как средство дать знать о себе. Раз или два Гильдегард тайно посетила меня, несколько раз я ее, но встречи эти я расцениваю не как семейную жизнь, а скорее как свидания. За это время на меня успели составить специальное «дело» и перевести из одного казарменного сообщества в другое; семейную жизнь я вел еще раз – дней пять в 1940 году, когда у меня родилась дочка, и еще раз – недели две в начале 1941 года – я лечился тогда после черепного ранения, которое получил по милости одного француза, имевшего все основания считать меня своим врагом. Я буквально налетел на него в темноте, когда он перебегал через дорогу с двумя пулеметами, видимо изъятыми с оружейного склада моего тогдашнего казарменного сообщества. Я заговорил с ним на изысканном французском языке, каким изъясняются начальницы гимназий, попросил не вынуждать меня вести себя невежливо – как именно, я и сам не знал, – пусть лучше бросит эти штуковины и удирает или же пусть, бог с ним, удирает вместе с этими штуковинами, но так, чтобы я, опять-таки без всякой невежливости, мог следовать за ним, разумеется на некотором расстоянии, – любого рода «боевые действия» меня не прельщают. Но француз не дал мне выговориться, прострелил из пистолета мой череп и оставил меня лежать на дороге в луже крови, из-за чего я попал в крайне неприятную ситуацию: «Нежданно-негаданно показал себя героем», – как заявил впоследствии предводитель нашего казарменного сообщества. Все это происшествие мне чрезвычайно не нравится, упоминаю о нем только из соображений композиции.
Тем самым исчерпана как военная, так и семейная темы: отныне в этой повести будет сплошной аромат роз – мир и благодать. Те военные и послевоенные события, о которых мне еще необходимо будет упомянуть – для соблюдения правильных пропорций, – я преподнесу в стилизованном виде: либо в немецкой декоративной манере начала двадцатого века, либо в манере художников Шпитцвега и Макарта. Как бы то ни было, я перемещу их в сферу живописи, и они смогут украсить любую почтовую открытку. Чувство, какое я испытываю к войне, не совсем сродни чувству, какое питает любитель чая к кофейной торговле, скорее это чувство, с каким пешеход относится к машинам.
VII
В этом самом качестве, то есть в качестве пешехода, я предлагаю здесь, в особом разделе, кое-какой исторический материал. Даю его в сыром, необработанном виде – вместо карандаша вооружаюсь ножницами. Пусть каждый использует мои вырезки, как ему заблагорассудится – может изготовить из них аппликацию для своих детишек или же оклеить ими стены. Вырезки эти отнюдь не без пробелов, наоборот – в них полно пробелов; кто хочет, пусть смастерит из них бумажного змея и запустит в небо или же склонится над ними с лупой, чтобы подсчитать мушиные следы. В каком виде ни рассматривать материал, который я здесь даю, в увеличенном или в уменьшенном, ясно одно: он – подлинный, а как его используют – не мое дело. Быть может, лучше всего склеить из этих вырезок своего рода траурную рамку для нашего альбома «Раскрась сам». В свое время я считал все это хоть и подлинным, но нереальным, поэтому предоставляю каждому извлечь из моих вырезок ту реальность, какая ему нравится.