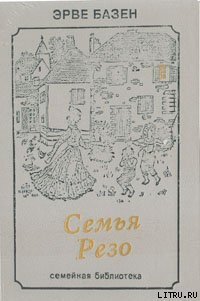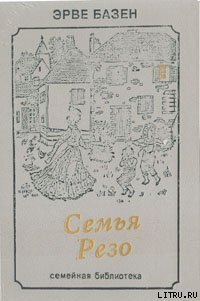Кого я смею любить. Ради сына - Базен Эрве (книги без сокращений txt) 📗
тогда как Натали, побагровев, с яростью следила за ним взглядом, разряжая ему в спину два пистолета. И в
самом деле, прекрасная сцена, достойный финал этого дня облапошенных! Морис приехал, чтобы узнать о том,
что его, возможно, провели, обманули, как и нас, под великолепным предлогом. Проявляя сдержанность, он
испортил свой выход и, желая исправить эту неловкость, усугубил ее непростительной бестактностью,
обратившись к Натали, как к прислуге. Как он мог не знать, что мадам для Нат звалась Изабелью, а сама она,
уже давно ставшая членом семьи, была Натали только для нас одних, по выбору сердца, из “изустной дружбы”,
и в этом обращении не оставалось ничего от отвратительной барской привычки обходиться только именем?
Конечно, Морис обратился к ней так только по незнанию подлинной роли, которую играла в Залуке та, кого весь
поселок вежливо называл “мадам Мерьядек”. Но от этого было не легче, напротив, ибо в таком случае это мама
1 Закон от 1884 года, восстанавливающий право на развод.
забыла упомянуть о ее роли, расставить все по своим местам, и оскорбление усугублялось неблагодарностью.
Самолюбие легче уязвить, но раны, нанесенные любви, кровоточат дольше. Достаточно было взглянуть на
Натали, чтобы в этом убедиться: она не скоро оправится от удара. Она трижды повторила про себя неясную
угрозу:
— Ну, куманек…
Затем повернулась ко мне:
— Ты слышала? Иосиф! Интересно, кто я теперь в этом доме. И ты поняла? Может статься, что твоя мать
даже и не беременна! Она могла ошибиться… Закрой ставни, пока я сделаю омлет.
Она развернулась и помчалась на кухню, взбешенная, взвихрив платье. Берта пошла за ней, в расчете
собрать урожай с ваз с фруктами, как она часто делала перед ужином. Я раскрыла первое окно, чтобы подтянуть
ставни. В комнату хлынул запах прелых листьев и неустанное кваканье лягушек с Эрдры. Со стороны вишни
ночь разорвал крик совы, более пронзительный, чем трагичный. Небо было совершенно черного цвета, немного
грязного, как сажа в трубе. Но десятки светлячков посверкивали то тут, то там, словно на землю попадали
звезды.
— Если подумать!.. — произнесла Натали позади меня.
Я обернулась. Подумав, Натали возвращалась, переходя в контратаку, потрясая своим шиньоном, как бык
рогами. Она уже прошла через прихожую. Около лестницы она резко остановилась и, запрокинув голову,
сложив руки рупором, издала мощный рев:
— Изабель, ты хочешь бульона?
Наступило небольшое молчание. Затем, наверху, отчетливое эхо повторило: “Изабель, Натали
спрашивает, хочешь ли ты бульона?” За небольшой паузой последовала небольшая дискуссия, которой я
воспользовалась, чтобы закрепить ставень. Но окно закрыть не успела.
— Немножечко! — произнес наконец слабый голос моей слабой матери.
— Хорошо, — тотчас подхватил громоподобный голос Натали, — Морис тебе принесет. Скажи ему,
чтобы подбросил дров в печь. И принес мне твой горшок…
VI
Среди присутствующих был незнакомый молодой человек поразительной красоты, с глазами, как
сладкий миндаль, и тем типом лица с чистыми чертами, что притягивает менее чистые взгляды, как цветы
привлекают мух. Со своего места на поперечной скамье для девочек, окруживших задыхающуюся
фисгармонию, я отлично его видела, справа от меня, и так же отлично видела слева присевшего для молитвы
нашего старого настоятеля, маленького, седенького, завернутого в зеленую ризу бесконечных “воскресений
после Троицы” и едва способного приподнять веки, когда звучный сгусток в голосе наших коровниц нарушал их
благочестивое гудение молочного сепаратора.
Досадное невнимание! И еще более досадный символ! Мама сделала выбор между тем и этим, и мы
были осуждены вместе с ней. Сдержанные приветствия на дороге, расцвеченной праздничными юбками,
сказали мне о многом. Невелика беда, конечно: я никогда не принимала близко к сердцу людское мнение. Но
остальное было не лучше. Deum de Deo, lumen de lumine 1… Накануне, после первых оплошностей, Морис
немного исправил положение. Он сумел спуститься с судном в руках и добродушием на лице. Он смог избежать
грозного испытания ужином, поднявшись обратно с подносом, чтобы “составить компанию нашей больной”. И
когда рано поутру, отправив, по обыкновению, Натали с Бертой к первой службе (чтобы наша умница была
меньше на виду), я поскреблась в дверь голубой комнаты, открыл мне он, уже чисто выбритый и полностью
одетый. Et iterum venturus est cum gloria 2… Можно было поклясться, что он всю ночь не ложился, чтобы не
быть застигнутым в кальсонах, что он репетировал перед зеркалом, чтобы довести до совершенства шаркание
ножкой, отеческий поцелуй, приветственную фразу:
— А вот и наша Иза! Вы знаете, маме уже лучше.
Добрый день, месье. Надо было сухо дать ему понять, что я вовсе не его Иза; что я принадлежу той
другой, которой, чмокая ее то туда, то сюда, я тотчас залопотала: солнышко, котик, зайчик-белянчик — все
извечные ласковые имена. Это совершенно ошеломило мою бедную мать! Она воздавала чмоком за чмок, с
признательностью вылизывала свою дочь, считая себя уже прощенной, искупленной, очищенной слюной. И,
несмотря на свое отвращение к таким вещам, я продолжала эту сладенькую сцену, до тошноты, уверенная в том,
что нежеланный свидетель наших излияний острее ощутит таким образом вкус горечи, предназначенный ему
одному. Зайчик-белянчик, впрочем, был вовсе не белого, а отвратительного желтого цвета, переходившего в
фиолетовый под опухшими глазами и покрытого какой-то крапивницей. Я нахмурила брови, но супруг
поспешил меня утешить:
— Это всего лишь из-за расстройства желудка. Ваша мама, должно быть, не переварила устриц в
Бернери.
— Я тоже так думаю, — сказала мама. — Когда мигрень выходит прыщами, значит, что-то с желудком.
1 Бог от Бога, свет от света (лат.).
2 И снова грядет к нам со славою (лат.).
Эта мысль, без всякого сомнения, принадлежала Натали. Но устрицы принадлежали месье Мелизе, и от
намека на какой-то там ужин после свадьбы меня отбросило назад…
Разворот и бегство! Отступление на кухню, к кофе с молоком, превращенному в суп большим
количеством хлебных крошек 1. Тет-а-тет со стенными часами, безостановочно гоняющими стрелку по кругу. Я
мрачно подождала, слушая, как разносится над изгородями медленный колокольный звон, который ветер
смешивал с глухим светом серого утра. Я еще подождала, перемывая посуду, возвращения Натали, взбешенной
тем, что она запачкала свои музейные экспонаты — бархатную юбку и фартук из красного шелка, в которые,
несмотря на смешки, продолжала наряжаться каждое воскресенье. Затем я ушла, в свою очередь, держа под
мышкой молитвенник, напичканный картинками, и, прыгая через лужи, проклинала на чем свет стоит эту
машину, загромоздившую наш сарай, от услуг которой я не могла отказаться, потому что они не были мне
предложены.
* * *
…et vitam venturi saeculi
2.
Кюре с трудом поднимается, пока завершающий “amen”
3
затихает в горле
хористок. Певчий в чересчур короткой сутане бежит за вином для причастия, и служба продолжается в ритме
трещотки викария, который во время сбора пожертвований зорко следит поверх очков в проволочной оправе за
скамьями, заполненными ребятней. На колени, сесть, на колени, встать… Я повинуюсь механически, подпеваю
в унисон. Но действительно ли я в этой церкви, среди этих девочек с грубыми голосами, этих кумушек с
жирными шиньонами, этих крестьян, измотанных молотьбой, чей подбородок время от времени падает на
галстук с толстым готовым узлом? Меня охватывает необычная спешка. Этот кюре бесконечно разводит руки,
растягивает свои oremus 4, и я — о Господи! — испускаю дерзкий вздох облегчения, когда он оборачивается,