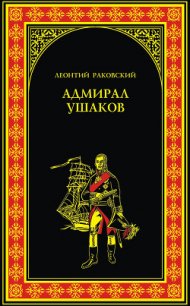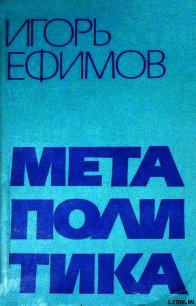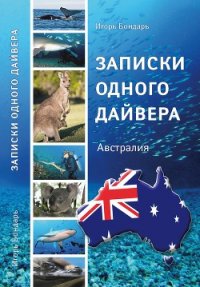Жил-был мент. Записки сыскаря - Раковский Игорь (читать книги онлайн бесплатно серию книг .txt) 📗
Через два дня, вечером, Петрова догнали два «зверя». Разговора не было.
***
«Гр. Петров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упал, что послужило причиной перелома основания черепа…» Прокурорский чин подмахнул постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти. Ещё одним алкашом меньше…
***
Что осталось от Петрова, сожгли и похоронили. На похоронах была его мать да пара соседок.
Сыщик завербовал нового агента и дал ему псевдоним «Фагот».
— Ну не мудак ли я? — сказал новоиспечённый секретный сотрудник, закуривая.
Про пидарасов
СПТУ № … было на хорошем счету. Контингент там был разношёрстный, но драк и поножовщины не было. А если и случались случаи воровства, ну кто не без греха, то приехавшие по вызову сотрудники милиции обнаруживали вора в кладовке завхоза, потерпевшего — в кабинете директора, украденное на столе секретарши СПТУ, а свидетели рвались дать показания.
В этом была заслуга замдиректора по воспитательной части, Арнольдовича. Он был высоким и крепким мужчиной, с красиво уложенными волосами и холенными руками. ПТУшники боялись его, как огня. Арнольдовича знали в Министерстве, он был на хорошем счету в райкоме партии. Поговаривали, что скоро он станет заслуженным учителем. И было за что, мероприятия, концерты, дисциплина. Он дневал и ночевал в училище.
Сыщик по детям рубил палки, кривая раскрываемости росла. Его хвалили даже в прокуратуре! Инспекторши детской комнаты милиции зазывали Арнольдовича на торт с чаем, а может, чем чёрт не шутит, с шампанским! Зам директора отнекивался, ссылаясь на ревнивую жену.
Взяли его на горячем, когда он, закатив глаза и порыкивая, пользовал пухлого воспитанника СПТУ в бане. Сдал его старый пидор, вышедший в тираж и промышлявший мелкими кражами в той же бане.
После задержания и посадки Арнольдовича кривая преступности в СПТУ поползла вверх, а процент раскрываемости упал до нуля.
Сыщика по детям ругали за низкую раскрываемость, полное отсутствие профилактики. Он понуро молчал.
Однажды, не выдержав и глотнув воды из графина, бухнул:
— Ну не пидорас я! Не пидорас!
Крик души да и только.
Сардельки по Достоевскому
Петровна была тёщей Силантьева. Она поджимала губы, когда зять её единственной дочери называл её мамой.
Про зятя думала, что подлизывается из-за деревенского дома. Да и что с него взять, очочки, бородёнка, грудь впалая, сам худосочный, как цыплёнок по рупь сорок пять. И что Лизка в нём нашла? Конечно, прописка московская — это тебе не деревня Жуковка, а так — зам кого-то за 150 рублей. Вечно друзья у него на кухне, болтают о чёрт знает чём и Лизку в это дело втравили. Да и закурила девка, стыдоба.
А зять-то в деревню приедет и как сядет на веранде, так и чаи гоняет, лучше б сгонял грядки прополол. Не дождёшься. А пожрать первый бежит, аж бородёнка трясётся.
***
Силантьеву повезло как никогда. В гастрономе выбросили в продажу сардельки, а потом «печень трески», а ещё солёную горбушу. И деньги были, аванс дали. Пометавшись в трёх очередях он, счастливый, выбрался из духоты и криков, помахивая портфелем, весело побежал в сторону метро.
Силантьев предвкушал приезд своего закадычного приятеля, как они будут сидеть на кухне, попивая водку, закусывая её салатом из печени трески, жареной картошкой с хрустящим огурчиком с тёщиного огорода и кусками солёной горбуши. А утром. Да, а утром как славно отварить сардельку и съесть её горячую, брызгающую соком, с чёрным хлебом и горчицей. Выпить крепкого чая. И, выйдя из дома, закурить первую сигаретку, не какую-то болгарскую кислятину, а крепкую «Яву».
Красота!
Через день, утром, шлёпая босыми ногами по солнечным квадратам, лежащим на паркетном полу, он открыл холодильник. Сарделек не было, банка «печень трески», жёлтая такая, пропала. Только половина горбуши лежала, игриво задрав хвост.
— Лиза! Где сардельки?!
— Ой, напугал! Мама забрала, там строители придут погреб цементировать и баньку править. Им закуска нужна городская, студенты потому что.
***
— Тварь ли я дрожащая? — бормотал про себя Силантьев. Электричка, набитая потными телами, катила в сторону Дмитрова.
Зять набросился на тёщу с кулаками, забыв про туристический топорик в портфеле. Тёща ответила одним ударом. Утюга. Шрам на голове остался на всю жизнь. Как и вера в справедливость суда. Ещё и заявление не принимал участковый, пришлось прокурору писать.
Тёще дали условно.
***
После суда Петровна, поджав губы, сказала дочери:
— Дура ты, не мужик он, так — студень.
Запах земляничного мыла
Смуров слово «депрессия» слышал, но вот термин «похмелье» ему ближе и роднее был. Вчера он усугубил после заслушивания, где его ругали за низкие показатели по раскрываемости и велели исправиться. На что сыщик ответил привычно-бодрым «Есть!».
К вечеру он разминал кисть руки, уставшую от писанины, и тупо разглядывал папки с висяками, разложенные на его столе. Своим светло-коричным цветом они напоминали детскую неожиданность.
— Жизнь говно, а люди твари, — вслух произнёс Смуров. Стены кабинета покрашенные в тёмно-зелёный цвет, не ответили эхом. Они и не такое слышали.
И Смуров, чтоб отвлечься, стал мечтать. И мечталось ему о избушке на берегу широкой реки, что течет неторопливо. Вокруг лес. Жизнь простая и без затей. Ловить рыбу, бродить с ружьем в поисках дичи, топить холодными вечерами печку, засыпать, накрывшись лоскутным одеялом, глядя на отблески огня из поддувала и слушая комариный звон.
Смуров вообще мечтатель был. Он иногда так мечтал, что действительность подёргивалась дымкой и исчезала в тумане небытия. Мечты же становились реальностью, обретали краски, запахи, и жилось в мечтах тихо и уютно. Смуров любил это пограничное состояние. В действительность он возвращался бодрым и отдохнувшим, правда где-то в глубине души лежала лёгкая горечь по несбывшемуся.
Вырвал сыщика из туманного небытия криминалист Вартанян. Сверкая глазами и потряхивая головой, он с порога закричал:
— Ты тут сидишь, а я тут с девушками познакомился. С двумя. Понимаешь?
Смуров понял. Дела были засунуты в сейф, ключи звякнули, шлёпнулась печать на пластилин, и две верёвочки, торчащие из-под пластилина, весело качнулись. Две бутылки портвейна и шоколадка легко поместились в портфель, выданный руководством для хранения агентурных дел.
За трамвайным кругом, что был рядом с проездом братьев Черепановых, стояло женское общежитие.
Смуров и Вартанян солидно кивнули вахтёрше. Бутылки предательски звякнули. Вахтёрша глянула на их удостоверения, вздохнула и махнула рукой. В коридоре общежития пахло жареной картошкой и земляничным мылом.
Девушки оказались водителями трамвая. Вартаняну досталась полненькая, Смурову — худенькая. На столе, покрытом клеёнкой в красную клетку, дымилась сковорода с жареной картошкой, высился горкой крупно порезанный чёрный хлеб, банка с маринованными огурцами сверкала стеклянными боками.
Выпили за знакомство, потом за мир во всём мире. Вартанян рассказывал о достижениях науки, которые он почерпнул из журнала «Наука и жизнь». Смуров и худенькая налегали на закуску. За окном звенели трамваи, постукивая колесами на стыках рельс. Вартанян и толстушка ушли в соседнюю комнату, которая была свободна.
Худенькая обхватила руками острые колени, торчащие из-под цветного халатика, и, закурив, сказала:
— Я так ненавижу водить трамвай. Ездишь по кругу. Знаешь, я пони на ВДНХ видела, он детей катал. У него глаза такие, как у меня, — она помолчала и добавила: — Несчастные.
Смуров посмотрел ей в глаза. Глаза как глаза. Карие. У Смурова такие же.
И он решился. Рассказал о своих мечтах и уходе от действительности. Худенькая погладила его по голове.
— А знаешь, я тоже мечтаю. У меня над кроватью картинка висела. Прага. Ну там шпили, церковь, крыши. И небо такое голубое. Мне её папа подарил. Хочу я там оказаться. Чтобы смотреть из окна на всё это, кофе пить и сигаретку покуривать. А внизу пусть трамвай едет, в память о прошлой жизни.