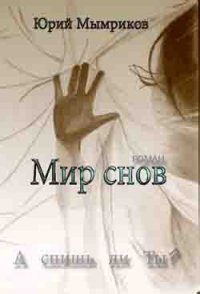Улица Грановского, 2 - Полухин Юрий Дмитриевич (читаем книги онлайн без регистрации TXT) 📗
Глубоко потрясенный, я наблюдал, как люди, принадлежавшие к высшему руководству, пытались скрыть свое состояние полной беспомощности и безысходности, рисуя в своем воображении совершенно искаженную картину действительности, картину, лживость которой была очевидна для всех присутствующих.
Больно было видеть, с каким внешним равнодушием, с каким безразличием эти люди решали вопрос о жизни и смерти тысяч, а часто сотен тысяч людей, играли судьбами целых районов, городов, как будто это было в порядке вещей.
Военное искусство было низведено здесь до ремесла.
Когда-то превосходно действовавшая машина работала теперь рывками, поршни ее сработались, зажигание отказывало, и она с грохотом и скрежетом разваливалась по частям.
Об ответственности никто не говорил. Думали ли вообще о ней?
Перед тем как я впервые поехал в военную канцелярию, один старший офицер сказал мне, что я должен быть готов к тому, что увижу Гитлера совершенно другим человеком, нежели я знал его по фотографиям, документальным фильмам и прежним встречам, а именно: старую развалину. Но то, что я увидел, намного превзошло мои ожидания. Раньше я видел Гитлера мельком всего два раза: в 1937 г. на торжественных празднествах у памятника погибшим солдатам и в 1939 г. во время парада, посвященного его дню рождения. И действительно, тот Гитлер не имел ничего общего с человеком, которому я представился 25 марта 1945 г. и который устало подал мне ослабевшую дрожащую руку.
Я увидел лишь эту развалину и не могу себе позволить высказать иное суждение о Гитлере как о человеке, кроме того, которое сложилось у каждого о диктаторе на основании его действий, мероприятий и их страшных последствий. Если выразить мои впечатления кратко, то это был человек, знавший, что он проиграл игру, и не имевший больше сил скрыть это. Физически Гитлер являл собой страшную картину: он передвигался с трудом и неуклюже, выбрасывая верхнюю часть туловища вперед, волоча ноги, когда следовал из своего жилого помещения в рабочий кабинет бомбоубежища. С трудом он мог сохранять равновесие. Если его не останавливали на этом коротком пути в 20 – 30 метров, он должен был садиться на одну из специально поставленных здесь вдоль обеих стен скамеек или держаться руками за своего собеседника.
Левая рука ему не подчинялась, а правая постоянно дрожала. Это не было следствием покушения 20 июля 1944 г… а наблюдалось, как мне сказали, уже зимой 1941/42 г. В результате шока, полученного при покушении, даже наступило временное улучшение. Увидев Гитлера в бомбоубежище, я припомнил, что почти на всех прежних фотографиях он обхватывает левой рукой локоть правой. Мне кажется, что это было следствием отравления газом в первую мировую войну.
Глаза Гитлера были налиты кровью. Хотя все предназначенные для него документы и бумаги отпечатывались на специальных «машинках фюрера», размеры букв которых в три раза превосходили размеры букв обыкновенных пишущих машинок, он мог читать их лишь с помощью очень сильных очков. С уголков его губ часто стекала слюна – жалкая и отвратительная картина…»
Я отложил тетрадь. Вспомнил: рассказ этого офицера ставки много лет назад печатался, кажется, в «Правде».
И я уже тогда перечитывал его не раз. Но теперь-то представил будто воочию: заживо смердящий фюрер, лишь колченогая тень ублюдка вихляется в судорожной походочке над всей Германией, над той Германией, над теми ее дорогами смертными, по которым шли, теряя сознание, тряслись в железнодорожных вагонах, набитых людьми так, что умершие не могли упасть, маячили вровень с живыми, – Ронкин и Токарев, Панин и Корсаков, немец Вильгельм Гамман и чех Милослав Мулис и несть им числа!.. Но вот все ж таки сошлись они все в эту комнату ко мне. Даже мертвые, – добрались.
Светало. Ежик Филька высунул остренькую мордочку из-под шкафа и ждал, пока я потушу свет, чтобы потом похозяйничать всласть, следил за моими движениями.
Но так и не дождался своего, уснул. А мордочка с закрытыми глазами доверчиво торчала наружу.
Оконное стекло бросало на чистый пол ало-желтые блики. Пришло в комнату утро. Наверно, свет мешал ежику, он недовольно морщил во сне черный кончик носа, дергал иглами на спине, как, бывает, человек во сне – рукой или ногой. Может, снилось Фильке что-нибудь страшное?
Я встал и начал одеваться, стараясь двигаться бесшумно. Тапочки, брошенные ежиком посреди комнаты, не тронул – пошел на кухню босиком.
Было начало восьмого, когда я добрался до управления. Но Токарев уже был там, и не один: в кабинете сидел его зам по кадрам и быту, немолодой уже человек, черноволосый, с круглым бровастым лицом. Насколько я понял, речь шла о его отпуске. Токарев вычитывал ему:
– Твои жэкаошники вообще ни хрена не делают! Заасфальтировали вам улицы, так вы даже убирать их не научились: чуть дождь пройдет, и асфальт, бетонки грязью заволакивает!
Тот возразил угрюмо:
– Так ведь транспорту сколько!
Токарева это еще больше раскалило. Он встал, прошел настречу мне, кивнул и поздоровался за руку, продолжая говорить заму:
– А в Москве транспорту меньше? Чистить надо!
Под моим-то окном каждое утро скребут-скребут! Двести метров в каждую сторону – и все! Только спать мешают. А вот ты по?~робуй-ка проберись к женскому общежитию в восьмом квартале. Был там?
Заместитель молчал.
Нос картошкой, сизоватый уже, и черные пушистые брови, – – изредка он подкручивал механически, сам не замечая того, их кончики двумя пальцами, и брови – у висков – торчали как пики… Дремучая какая-то физиономия.
– Вот ты съезди! Нет, лучше пешочком попробуй пройти! Там лужа такая – ботиночкам твоим делать нечего! – Все мы невольно взглянули на его ботинки
– из коричневой выворотки, хорошие ботинки. – А что же девушкам по вечерам и в лакировках не пофорсить?.. Сегодня же возьми лопату, найди самосвал, привези туда гравий и раскидай его. Сам раскидаешь! А я проверю!
Тогда и поговорим об отпуске.
Видно было: он только сейчас принял такое решение, раздраженный репликой зама. Сел за стол, притянул папку с бумагами и, уже в них глядя, сказал мне:
– Сейчас разберусь с почтой, и поедем, покажу вам стройку.
Он мне еще вчера это обещал. Я сидел молча. И зам не уходил, мусолил, острил кончики бровей, как, бывает, усы крутят. Минуту спустя дверь распахнулась, и легко, быстро прошагал к столу начальника строительства высокий, изящный человек. Поклонился всем сразу и сел, не ожидая приглашения, как человек свой, заговорил, хотя Токарев смотрел в бумаги:
– Вы знаете, Михаил Андреевич, я на Востоке долго жил, городок пропащий, все друг друга знают, – голос у него был тихий, но не сомневался он: Токарев его слышит. – И там привык: если кто-то на улице подбегает и с готовностью руки тянет навстречу, улыбается, – значит, точно: или сделал тебе какую-то гадость, или собирается ее сделать…
Токарев засмеялся и откинулся на стуле, поставив его на две задние ножки, закачался на них. Как-то сразу заметнее стали нездоровые отеки на его широком лице.
– Приятно с вами поговорить, Александр Григорьевич. Как я понимаю, насчет ДНБ пришли?
Тот развел руками.
– Так я и тоже ценю догадливость вашу… Месяц на Дом нового быта не мог я из вас одну бригаду отделочников выбить, а тут сразу – пять. Чем объяснить такой ренессанс?
Токарев играл стулом.
– Ну, а почему вы исключаете простое внимание к вашим просьбам – просьбам главного архитектора города?
Это уж он для меня пояснил. Но тот говорил попрежнему – только Токареву:
– Знаете, когда Александр Македонский завоевал Грецию, все философы, мудрецы пришли к нему на поклон, кроме Диогена. Александр, удивившись, отправился к нему сам. И застал его загорающим на берегу моря. Спросил: «Нет ли у тебя какой-нибудь просьбы?»
Диоген ответил: «Отступи чуть в сторону, не заслоняй мне солнца».
Токарев рассмеялся, теперь уже громко, а отсмеявшись, спросил:
– И он не наказал его?
Главный архитектор взглянул удивленно и ответил, сожалея как бы: