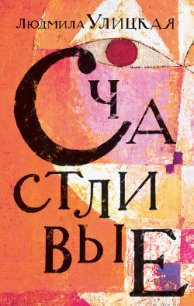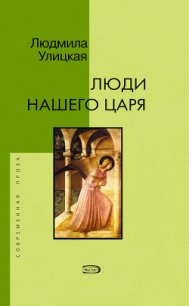Казус Кукоцкого - Улицкая Людмила Евгеньевна (книги читать бесплатно без регистрации .TXT) 📗
Братья – или мужья – Гольдберги держались корректно, но было им не «хоть что», как полагала Василиса. Оба они болезненно отнеслись к появлению самозванца. Впервые за последний год они испытали одновременно одно и то же чувство – состояние, знакомое им с раннего детства, может быть, одно из первых осознанных переживаний – досады и справедливости поражения... Двенадцать часов уже пробило, а с шампанским запоздали. Таня забыла бутылку в холодильнике, пока принесла, пока Павел Алексеевич открыл... Новый год уже начался, и выпили, чтобы все было хорошо, чтобы выпустили Илью Иосифовича, и чтобы были счастливы, здоровы, и особенно новенькая девочка... Все что-то говорили вразнобой, шумно, звенели вилками о тарелки, только Таня с Сергеем сидели молча, смотрели друг на друга, ну просто как две иконы друг на друга уставились. И все видели, что этот музыкант и впрямь очень подходил Тане, и видна была их одноприродность, однопланетность, что ли... то, что в Тане было особенным и слегка озадачивало, на нем было ясным-ясно написано. И братья Гольдберги совершенно здесь были ни при чем и прекрасно это понимали. Особенно когда музыкант расчехлил свой саксофон, велел Тане немного его поддержать, и она немедленно, не ломаясь, сгребла с пианино наваленные на него газеты, предупредила, что более расстроенного инструмента никто сроду не слышал, и села, не чинясь, и он показал ей аккомпанемент левой рукой на басах, и она перехватила. И Павел Алексеевич сразу же догадался, что Таня в последние месяцы поигрывала... А Сергей извлек из своей дудки сначала какие-то поисковые трели, Таня к нему подлаживалась, заходила то справа, то слева, так они потолкались на каком-то неопределенном месте, а потом Сергей спел на своем саксофоне длинную радостную весть, которая окончилась таким счастливым воплем, что братья Гольдберги переглянулись родственно и почувствовали себя во дворе малаховской школы, на большой перемене, среди вражды деревенских, поселковых и интернатских, где им особо доставалось за непринадлежность ни к кому...
Елена при первых же звуках саксофона вцепилась в обшлаг мужниной домашней куртки: она услышала, а вернее сказать, увидела происходящую музыку как множество плавных лекальных кривых, разбегающихся из темной сердцевины металлического горла, и самая главная из них, тугая и матовая, как свежая резина, превращалась в плоскую кривую и раскатывалась стройной спиралью Архимеда, которая все расширялась, заполняла всю комнату и разлетевшимся рукавом выхлестывала в окно... А сам звук, оказывается, был проекцией чего-то неизвестного, неназванного, но производимого с видимым напряжением длинноволосым юношей со знакомым лицом...
Павел Алексеевич удивился, до чего же ловко Таня аккомпанирует, не забыла, видимо, музыкальных уроков, – и порадовался.
Сергей пригасил звук, выдул из саксофона остатки, и Елена увидела, как опали в воздухе кривые, вылиняли и растворились. Лицо у молодого человека было не просто знакомым, а наизусть известным: брови густые, светлые, в одну линию, верхняя губа чуть нависает над нижней... Он положил саксофон рядом с корзинкой, мотнул головой, залез пятерней в волосы, отбросил назад знакомым жестом... Полно песку в волосах – пришло в голову Елене...
А потом Таня унесла корзинку со спящей девочкой в кабинет к Павлу Алексеевичу, и они там закрылись с Сергеем, и гости, проходя по коридору в уборную мимо двери кабинета, слышали, что они смеялись. Часа два болтали и смеялись. А утром Сергей ушел, когда все спали. Павел Алексеевич уложил спать Елену и прилег в спальне, на своем прежнем месте, и, не раздеваясь, проспал до позднего часа – с вечера он выпил изрядно. Елена же почти не спала, лежала с открытыми глазами и вспоминала, откуда знаком ей музыкант, и, кажется, вспомнила...
К концу января ремонт был закончен. Дом обновился, Василиса теперь ничего не могла найти – и кастрюли, и тарелки, и постное масло, все стояло на новых местах, и она от постоянных поисков так уставала, что в конце концов унесла в свой чулан хлеб, завернула его в полотенце и держала теперь его в своей тумбочке. Хозяйство Таня передала Томе, сделала запас крупы и макарон, сахара и муки. Повесила новые занавески и купила стиральную машину... Потом объявила Павлу Алексеевичу, что уезжает.
– Мама к ней привыкла, оставь ее у нас. Наладишь в Ленинграде жизнь, заберешь, – просил ее Павел Алексеевич.
За то время, что внучка провела в их доме, он понял, что дожил до такого времени в своей жизни, что эта маленькая девочка способна заменить ему всю его профессиональную деятельность, студентов, учеников и, главное, пациентов, и, что бы ни делал он в отделении – разглядывал ли трясущиеся линии кардиограммы, влезал зрячими пальцами в кровоточащий разрыв матки, пальпировал ли плодоносные животы, – ни на минуту не забывает он о девочке в плетеной корзине. Он внутренне отмечал ее новорожденное, небогатое время: сейчас она спит, уже просыпается, сосет, срыгивает, тужится и сучит ножками, производит серьезный акт испражнения, и снова засыпает... единственным и постоянным его желанием стало пребывание рядом с этой корзинкой, с девочкой, исходящей младенческим излучением, сладостным сном. В ней было еще мало индивидуального, но прорезалось уже родовое: брови раскинулись длинно, и несколько волоском топорщилось в том месте, где могла прорасти потом фамильная кисточка. Пожалуй, она напоминала ежонка: длинный носик, слипшиеся иголочками пряди волос... Но лоб, высокий лоб Гольдберга...
Тане было уже два года, когда она появилась в жизни Павла Алексеевича, и была она красивым и ласковым ребенком, доброжелательным и доверчивым, а эта крошка была почти совсем никакая, она не завоевывала сердца деда, ей просто-напросто от самого рождения дана была власть над Павлом Алексеевичем, и он наслаждался, сидя рядом с ее корзинкой, помогая Тане купать ее, касаясь красных нехоженых ножек... Это было чисто природное чувство, не нуждающееся ни в оправдании, ни в объяснении: так лев любит львенка, волк – волчонка, орел – орленка... И в этой точке открывалось, что любая педагогика есть бред и холодный рационализм, и когда начинается педагогика, отступает природное чувство, глубокое, животное чувство любви к детенышу... Самое низкое из всех высоких чувств...
– Я говорю это совершенно серьезно. Донорское молоко подберем. Я завтра же подам заявление об уходе...
– Пап, ну что ты говоришь? – Таня смотрела в морщинистое лицо отца, ловила совершенно прежде неизвестное в нем выражение – просьбы... И от этого ей становилось не по себе, и она возмущалась. – Да что ты в самом деле? Не представляю тебя на пенсии! Кашу ты ей варить будешь, что ли? С коляской гулять?
Он кивал:
– Угу. С удовольствием. Я, Таня, мало семьей занимался. А сейчас самое время. Будем с мамой коляску прогуливать.
– Мама в полном отсутствии, – хмуро замечала Таня.
– Не знаю. Не уверен...
Таня обняла его за шею, пощекотала за ушами:
– Папка, ты чудной, ей-богу. Я привезу тебе девочку, обязательно. Я, знаешь, хочу много детей. Девочек и мальчиков, штук пять.
Павел Алексеевич взял в горсть Танины руки, траченые стиркой и ремонтом, поцеловал и пошел на кухню выпить совершенно необходимую дозу – три четверти небольшого, в крупную грань, стакана. Что-то перекраивалось в его стареющей голове: почему среди десятков тысяч детей, принятых на свет, спасенных, даже спроектированных его интуицией, эта девочка и другие двое или трое, которые могут появиться от Тани, так драгоценны? Ведь я даже не могу сказать КРОВЬ... Никакой крови, никакого родства, ничего, кроме иррационального, необъяснимого, капризного и никчемного выбора сердца...
Таня торопилась. У нее был целый список дел, которые она одно за другим вычеркивала – невыветрившаяся привычка человека ответственного и организованного... Самым дорогостоящим и трудоемким делом была замена всей сантехники, включая и ванну, которой в последнее время стало невозможно пользоваться из-за постоянной течи; самым деликатным – крещение дочки. Для проведения этого благочестивого мероприятия в качестве эксперта была привлечена Василиса, в качестве крестной – Тома. Для начала Василиса наотрез отказалась идти в ближайшую к дому Пименовскую церковь, запятнавшую себя, по Василисиному пониманию, былой принадлежностью к «обновленчеству», и предложила ехать в какой-то деревенский храм в дальнем Подмосковье, где служил «правильный» священник. Но Таня удивительно легко расправилась с Василисиными принципами, сказавши, что в такую даль она ни за что не поедет, поскольку и сама-то она точно не знает, с чего это ей взбрело в голову крестить ребенка, и если уж возникают такие трудности, она готова и отказаться от этой блажи. На этом Василиса поджала губы и стала менять домашние, подрезанные валенки на уличные, с калошами... Таинство крещения совершили в Пименовском храме. С того дня девочка окончательно определилась Евгенией, и Таня вычеркнула тонкий крестик из делового списка. Оставалось последнее – искупать Елену в новой ванне. Уже больше года ванной не пользовались, вставали под душ и, не затыкая ванны затычкой, наскоро споласкивались, чтобы не залить соседей.