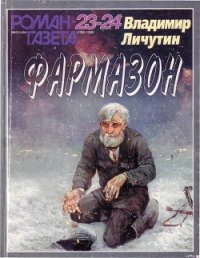Миледи Ротман - Личутин Владимир Владимирович (читаемые книги читать онлайн бесплатно полные .txt) 📗
Сколько ни мешкай, но пришла пора ребенку имя давать. Ведь и собака без кликухи не живет, а в имени человечьем отпечатана судьба и грядущий путь. Как бы не промахнуться. Ну, вроде бы оговорено все загодя, так чего мешкать? Но Ротман вдруг пошел на отказ, его непонятная ревность затомила, словно бы черт в ухо нашептал сплетни.
«Это в честь Братилова? Ты же с ним в девках парилась. Алешка, вошка, блошка, кокошка, чуть ли не какашка. Курица какая-то, честное слово. Ко-ко-ко! Ни рыба – ни мясо, ни Богу свечка – ни черту кочерга, ни баран – ни овца. Нет-нет» – «Ваня, ты сдурел? Может, угаром ошавило в бане? Иль вина опился? Дак вроде никто не поил», – вопрошала Миледи, домогаясь признания, и строила покорливый коровий взгляд; под глазами у бедной натекло синью от усталости, уж какую ночь не спит, хороводится с ребенком. А сердечко-то у бабицы тук-тук от испуга, от какого-то неприятного нервного вздерга, будто муж прочитал в глазах самую сокровенную тайну. Изменила, блудня, изменила? Господи, да и самой-то – как сон. «Ваня, мы же уговорились».
«Не знаю, с кем ты там сговаривалась. Я третьим не был, за ноги не держал».
«Вот ты какой противный. Все в любви клялся, а тут – как истукан».
Грызня уже совершилась, но до ссоры затяжной не дошло; по чьей-то милости Миледи внезапно пошла на попятную, будто дали ей свыше остерег, нашептали на ухо; де, подруженька, не ерестись, не вызывай бучи на ясное небо, не наводи тень на плетень. Что-то царапнуло сердце мужа, так не трави ту крохотную ранку до язвы, не доводи до беды; ты уже баба и знай науки досюльные, как мужа обвести вокруг носа, и чтобы он ни сном ни духом.
«И как ты хочешь? Никодим или Феофилакт? Иль, может, Гевласий?»
«Никодим и Феофилакт – имена достойные. Но назовем, матушка моя, сыночка нашего Иваном, – с ласкою во взоре, но с неуступчивостью в голосе сказал Ротман. – Иван – воин. Прошло время слюнтяев».
«Но у нас уже есть один Иван. Иванушка-дурачок».
«Будет два Ивана. Большой и маленький. Иван-поэт и Иван-воин».
Миледи пристально посмотрела на мужа, как бы прощаясь с ним, запоминала навсегда ускользающий лик. Но больше не перечила. И, уставясь в люльку на спящее дитя, на его багровую, словно бы обваренную кипятком рожицу, на белесую скобочку потных волосенок над широким лбом, подумала с тоскою и жалостью: «Чудо ты мое. Как же ты, Ротман, любишь высокопарные слова вязать в нитку и дурить себе голову. Ведь ничего впросте, сплошная канитель да путанка, все в угаре, а ни пылу, ни жару» – но, внезапно опомнясь, устыдила себя: «А ты-то, дура набитая, чего лезешь в занозу? Уймись, бабеня. Тебе молиться надо на мужа, глядеться на него, как в зеркальце. А ты – что флюгарка на ветру: круть-верть. Только бы юбку на сторону. Эх, ворона ты, ворона, черная душа».
И все же в апреле заехали в новый дом. Вернее – зашли в кухоньку, где русская печь была сложена и вдоль стен стояли лавки, а в большом углу на тябле стояла икона Иисус Грозное Око. Все скрипело и постанывало в избе, притирались бревна, оседали углы, рассыхались доски, урчали двери и половицы; одним словом, дом поднялся на костыли, и в дальнейшем усердием хозяина надо было эти подпорки выбить. Пройтись по пазьям конопаткой, прибрать паклю, завить ее в веревочку, заново согнать пол и потолок, подмазать красочкой, то есть всему обличью придать урядливость, заштопать наглухо каждую дырку, ибо северянин больше всего боится сквозняков. Только пройдя на себе тяжкие уроки земного быванья, вдруг ярко поймешь устав прежнего русского житья, его несколько угрюмоватые хоромы с низкими потолками, где порою и не задрать головы рослому мужику, прислеповатые оконца в толстенных колодах, двери мелкие с высоким порогом; входишь в дом и, еще не видя красного угла, невольно поклонись, ибо набьешь на лбу памятный синячище, как укор за гордыню. Все было уконопачено, чтобы не выпускать из житья и крохотной теплинки, чтобы не переводить занапрасно дровец, ибо на северах каждое полено достается горбом, а зима обжорная тянется вечность, и надо ее перемочь.
Но нынче-то, братцы, зазорно врезать стеклинку в четверть тетрадного листа, вот и ставят рамы, словно зеркала в модном гардеробе, во весь рост да с присыпкою, чтобы далеко смотрелись родимые просторы, и ни одна мелочишка чтобы не выпала из зорких глаз. А чего мудровать-то? чего выловишь в заснеженных лугах, полных стыни и сини, и снежных заструг? в себя глядись, братец, вот и намоешь золотинку для души в быстротекучей реке времени. Да ведь простота наша, она порою куда хуже воровства, ибо отбираешь у себя и кровников последнее и тут же пускаешь в пыль, когда не достанется ничего ни тебе, ни дяде, ни соседней б... И Ротман, наследуя не старинушку, а слободской новострой, влепил, раззудясь, оконницу во весь перед, и всяк живущий как бы заполз, заблудясь, в магазинную витрину, да и застрял в ней всем любопытным на посмотрение; он и двери забабахал, чтобы можно попасть в дом, не склонив головы, не содрав с темени лафтачка кожи. Ротман срубил житье для вольных сердцем людей, для небесных птиц, живущих одним днем.
Вот и загуляли по избе ветры, заходили вкрадчивые сквозняки, не находя себе препон; из углов дуло, из двери и окна поддувало, из щелей тянуло остудою и пронимало от пяток до макушки, и сколько бы ни топили русскую печь, все тепло уходило вон; в общем, не жалея дров, обогревали улицу. Но этой мелочевкою разве собьешь новизну впечатлений? разве принизишь радость, собьешь ее на колени? Да нет, ходили Ротманы по избе – голова в потолок, и каждый шепоток рудяных стен, скрип половиц, визжание дверей и таинственное порханье по-за углам давали душе особого праздничного восторга. Ведь в зыбке укачивался сынишко, туго опеленатый в овчинки, как самоединко из чума. То мать, наклонясь над зыбкою, всмотрится в пришельца из таинственной страны и вдруг промолвит, изумляясь: «Ну вылитый отец, ни взять ни дать. Надо же так угораздить? И ничегошеньки моего, будто не я рожала». То отец, шастая по избе, будто ненароком остоится в раздумье над люлькою и долго так выглядывает крохотное личико с высокими бровками, просторный лоб и нос тяпушкою, и ничего не найдя своего, буркнет Миледи, с подозрением уставясь в ее зеленые с просверком глаза: «Хоть бы одна капелька моего. Ты, баба, от кого рожала? Иль чужого выкрала? иль подменили случаем?» – «Протри глазищи-то! Иль ослеп? Вылитый ты: что нос, что глаза, что рот подковкою. И ножки твои, и ручки. Пальчиками-то вон как. Все время фигушки».
Ивану было приятно на сердце от слов жены, вся чужесть, если и возникала вдруг, все сомнения истаивали, как утренняя роса под солнцем, и он, морща в смущении нос, нерешительно говорил: «Не от матери-отца, от проезжего молодца. Но с кем-то ведь закуделила?».
Но средь ночи, успокоив мальца, порою долго не может уснуть; гложут сердце окаянные подозрения, изъедают мозг, и в голове строятся самые темные мысли, сбиваются в яркие мстительные картины, которые и возможно затушевать лишь на время усилием воли. И против желания давай считать дни, когда, по мнению его, понесла жена, когда запрудилась нутром; но ведь точно не поймаешь любовной игры, хоть переверни весь численник; ведь столько утех было, что и не счесть. Меток ведь не наставишь. А баба захочет – так и с ветром обвенчается.
А Миледи расцвела, она королевой стала в дому, ей нынче никто не указ; и несмотря на стылость в дому, с какой-то необычной откровенностью вытянет набрякшую титьку, этот кожаный мешок с молоком, да и покачивает им пред Ротманом: де, вон я какая тельная да молочная, приложись – так и тебя напою; двум мужикам хватит на три выти на дню. Да и розовый набухший сосок надавит чуть, а из него, как из краника, тут и потечет. «Ваня, тащи Ваньку, не томи!» – прикрикнет властно, играя глазищами и грудным низким голосом, и плечами, и титькою. Словно бы невтерпеж и вот этою же минутою и рухнет в беспамятство. Экая, однако, разбитная получилась бабенка, кого хочешь в смущение введет. Крепись, Ротман, не пришло еще твое время снова тискать женоченку; постись, сердешный, пока сыночек не наел мясов да не сел на ягоды, еще сморщенные, не окрепшие, в продавлинках и рыхлостях. Ну, приладится Ванюшка, прильнет щечкою и давай цедить из подойника, жадно вцепившись пальчиками в окраек груди и причмокивая; властно так прихватит, жестко, прицарапывая крохотными ноготками, словно бы вынимая, выминая целебную влагу из материнского поильника. Корми, матушка моя, с легким сердцем, чтобы не застоялось в живом кувшинце млеко, не спромзло-не прокисло, чтобы не заскорбело от недодоя кормящее вымя. Надуешься, родимый, из кормилки, а там спи-почивай до следующего часа.