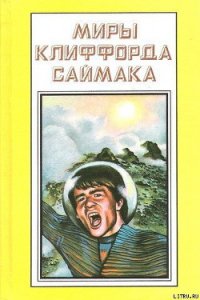Ночью на белых конях - Вежинов Павел (книги полностью .TXT) 📗
Это верно, пока Трифон прочтет газету, может наступить утро. Хотя читал он только «Вечерни новини», да и там — одни лишь объявления, от первого до последнего. И особенно внимательно — объявления о купле-продаже. Над каждым из них Трифон размышлял подолгу и с удовольствием, словно бы одинаково был готов купить и магнитофон, и рояль, и детскую коляску.
— Как твои почки? — на всякий случай спросил Урумов.
— Какие почки? А, мои, болят понемножку.
Сегодня утром Трифон пожаловался на почечный приступ, случившийся с ним в воскресенье. Потому, мол, и не пришел. Урумову стало ясно, что старик соврал. Ничего — прекрасная, благословенная ложь. Наверное, просто выпил лишнего накануне. Да и кто мог утром разбудить этого несчастного одинокого вдовца. Невестка никогда не утруждала себя надобными обязанностями, хотя и жила бесплатно в его квартире, построенной за счет бесчисленных мелких шоферских ухищрений. Да и к чему его будить, чтоб только кашлял да харкал в уборной.
— Ладно, стой, пока не выйду, — сказал Урумов.
— Буду стоять, как пришитый! — с усердием пообещал Трифон.
Урумов положил трубку и опять вернулся к окну. Вид недалеких гор всегда действовал на него успокаивающе, помогал забывать о времени. Но сегодня это не слишком получалось. Ему очень хотелось думать о погибших белых мышах, хотелось тревожиться из-за них, а сил не было. Сегодня все, что относилось к завтрашнему дню, его не интересовало.
Он не знал, что уже приговорен. Собственно, каждый человек приговорен, но. у его смерти было определенное имя. Урумов встретил ее более сорока лет назад, не увидев и не распознав ее. Встретил в том самом «Альказаре» с его русскими балалайками и певичками, с его замызганным бархатом, бумажными фонариками и гирляндами, маскирующими закопченный потолок; встретил в тот самый день, когда заглянул туда, чтобы наскоро поужинать, — у нее на глазах, у нее в глазах, в ней самой; встретил за столом в рубиновых отблесках вина, в платье, имитирующем змеиную кожу, и — с ядом. Ядом, который он выпил в бокале шампанского. Кто из людей знает, когда он, в сущности, видит ее впервые, — так много у нее лиц и такими повинными кажутся ее страшные преображения.
Самое главное сейчас не думать и спокойно ждать. Но это страшное ожидание раздирало его нервы, омрачало долгие солнечные дни. Все утро Урумов провел в каком-то грустном забытьи. Он не хотел думать о завтрашнем дне, хотя с радостью вспоминал о вчерашнем. Почему? Он прекрасно знал — то, что связывает человека с прошлым, ничем не отличается от того, что связывает его с будущим. Обе эти связи одинаково крепки и надежны и — самое главное — одинаково реальны. Одни лишь слепцы верят в то, что только сегодняшний день — настоящий. Надо успокоиться и расслабиться. И Урумов действительно расслабился, его вновь охватила сонливая нежность, которая не покидала его все последние дни; ощущение прикоснувшихся к лицу кончиков пальцев, бессонные рассветы, когда восходит зеленоватая звезда. Нет, не белая, рожденная из морской пены, а его собственная — на бледно-алом фоне неба.
Когда часы пробили половину восьмого, Урумов сел за стол. Но напрасно он листал бюллетени, тоненькие брошюрки на рисовой бумаге, известия. Он попросту ничего не видел — ни слов, ни даже букв. Наступали самые трудные минуты, они тащились медленно и ползком, совсем как сороконожки, несмотря на многочисленные, изо всех сил работающие лапки. Она должна была прийти в половине восьмого, причем обычно опаздывала всего на несколько минут, не больше. Сейчас прошло уже десять, а ее все не было. Внезапно его охватила безумная мальчишеская паника — а если с пей что-нибудь случилось? Вдруг кто-нибудь сообщил ей о Кристе, и она вне себя помчалась в Карлово? Но, подумав, он понял, что это вряд ли возможно. Женщина с таким воспитанием не могла уехать, не поставив его в известность. Мария уважала его гораздо больше, чем ему бы хотелось, — ведь уважение прежде всего означает некую дистанцию.
Мария пришла без четверти восемь. И сразу же кабинет словно озарился, все стало необыкновенно простым и легким. Одета она была очень хорошо, но показалась ему немного задумчивой и печальной. Впрочем, что ж тут такого, к настоящей радости человек всегда идет с некоторой печалью. Если не почему другому, то хотя бы из страха, что может ее потерять. Она села в кресло, стоявшее подальше, и улыбнулась.
— Знаете, мы вчера так мало ходили, а я чувствую себя совсем разбитой.
— Неужели? — удивился он. — А я ничего!
— Вот видите! — обрадовалась Мария, словно хотела услышать именно это.
— А у вас это, конечно, не от ходьбы, а потому что вы полчаса простояли в очереди.
Она засмеялась, на этот раз совсем непринужденно.
— Да, но зато котлеты были такие вкусные. Я и сегодня о них вспоминала. И до сих пор чувствую себя сытой, честное слово.
— Надеюсь, вы не ужинали? — подозрительно спросил он.
— Как можно, вы же меня пригласили на ужин.
— А вдруг вы забыли.
Она взглянула на него как-то особенно.
— Я никогда ничего не забываю. Может быть, это самая плохая моя черта.
Да, именно так она и должна была ответить, поделом ему. Лучше, пожалуй, переменить тему.
— А где вы вообще питаетесь? В столовой?
— Что вы! Я ведь должна готовить и для Христины.
— Ну, например, сегодня что вы готовили? На обед?
Мария улыбнулась.
— Запеченный картофель.
Может быть, вернее было бы сказать — постный картофель. И добавить, что и тот пришлось нести в соседнюю пекарню, так как электрической печки с духовкой у нее нет.
— Надеюсь, ваша картошка уже как следует переварилась, — впервые за весь вечер улыбнулся академик.
— Почему? Куда вы собираетесь меня вести?
— В один неплохой кабачок. Это не очень далеко, почти в Софии.
Лицо у нее внезапно помрачнело, мелкие морщинки избороздили лоб, который до сих пор он всегда видел гладким.
— Не стоит, — сказала она. — Это уж чересчур.
— Почему?
— Сами понимаете.
— Но там вы действительно меньше всего рискуете! — убежденно проговорил он. — Туда ездят главным образом разные директора со своими секретаршами, ну и парочкой иностранцев для камуфляжа.
— Тем хуже! — сказала она. — Я предпочла бы какое-нибудь другое место. Куда ходят люди поскромнее.
— Но я уже заказал столик!
Мария на секунду задумалась.
— А, к черту! — сказала она каким-то новым, чужим и неожиданным голосом. — Поехали.
И тут же встала, легкая и подвижная в своем чуть расклешенном жестком синем платье. Машина, конечно, их дожидалась. За пыльным стеклом Трифон, тихонько бормоча, все еще изучал свои объявления. Сейчас он как раз раздумывал над неким ручным феном — к чему бы его применить, учитывая, что на собственной его плоской, как дно сковородки, профессорской голове оставалось всего два-три волоса. Когда они подошли поближе, Трифон весьма нахально оглядел приглашенную академиком даму и, судя по всему, одобрил. Они сели сзади, Урумов сказал, куда ехать.
К кабачку они подъехали еще засветло. Урумов отпустил шофера до одиннадцати часов и ввел свою даму в это знаменитое убежище грешников. Внутри было темнее, чем снаружи, хотя уже горели лампы, в большинстве своем цветные или затененные. Академику, как и положено, оставили удобный, довольно-таки уединенный столик. Все заведение было оборудовано в так называемом народном стиле, громадные свечи в железных подсвечниках обливались мутными стеариновыми слезами. Немедленно появился официант и предложил им свежего морского луфаря, запеченного на черепице. Урумов недоверчиво взглянул на него.
— Настоящий свежий луфарь?
— Господин профессор, у нас нет точных сведений о том, когда он скончался, — довольно удачно пошутил официант. — Но вы же знаете, луфарь — это царь-рыба… Мы подаем его не всегда и не всем.
— А вино в таком же роде у вас найдется?.. Которое не всегда и не всем?
Официант нерешительно взглянул на него, он явно боялся пообещать.
— Должно быть кое-что… Белый станимакский мавруд. Но не могу поручиться.