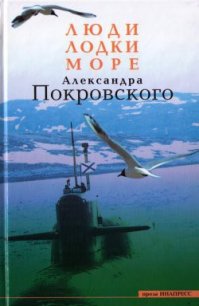Кот - Покровский Александр Михайлович (полная версия книги txt) 📗
И вот на практике в полку морской пехоты я сижу ночью и тоже вырезаю глазки. Все пошли покурить, и я, как некурящий, остался. И вдруг сзади слышу: «Ты что делаешь?» Поворачиваюсь – надо мной нависает огромный старшина морпех. «Вот, – говорю я, маленький и смущенный, – глазки режу». И тут слышу: «Режу?! А что мы жрать-то будем?!!» С тех пор я уже не режу глазки.
Вот такая история.
– Когда разрешили всем военным выращивать картошку, – вступает в разговор мой хозяин, – кронштадтский комендант приказал гауптвахте засадить его личное поле. А на губе тогда сидели одни годки. Их привезли, дали им семенной материал, сказали: «Вот оно, пространство», – и оставили одних. Они посадили всю картошку посреди поля в одну яму двухметровой глубины. А комендант все ходил и ждал всходов. Она взошла, когда годки уволились в запас. Посреди пустоши выросла гигантская картофельная клумба.
– Тихон, что у тебя есть о картошке?
– Ничего нет. Я ее ненавижу! Так ненавижу, просто жуть! Ненавижу ее сажать, полоть, вносить под нее навоз, который тоже ненавижу. И то, как она зреет, ненавижу.
– Тогда слово «поезд».
Что это с ними?
Ах, может быть, они говорят слова, а потом на них рассказывают всякую всячину?
– У кого что есть на слово «поезд»?
Я прав. Увы.
– У меня есть, – оживляется Шурик. – Слушайте: еду в плацкарте, а рядом папа с маленькой дочкой. Она ему: «Папа, папа, я хочу в туалет». – «Ну, пойдем в туалет». – «А-а-а… боюсь, там дырка». А в туалете действительно вместо унитаза на полу огромная дыра, и туда страшно смотреть, потому что дорога мелькает. Девочка ныла-ныла и наконец нассала на газету. А папа ей потом: «Будешь пирожок?» – «Нет». – «Тогда пойдем в туалет». – «А-а-а…»
Мда. Сюжет мне понравился. Девочка, безусловно, была фрустрирована тем обстоятельством, что в дырку мелькала дорога, и у нее теперь будут сложности с анальным сексом.
О чем бы еще мне подумать?
О трансгрессивном эросе или об эдиповом треугольнике?
А не погулять ли мне?
– Видимо, погулять.
Повернув на выход, я нос к носу столкнулся с Калистратом.
Тот был смущен.
– Я не хотел бы, чтоб моя поспешная ретирада, – заговорил он после небольшой паузы, – была вами воспринята, как невежливость.
– Ах, что вы! Какие пустяки, – пришел я ему на помощь.
– И тем не менее прошу вас принять мою благодарность за спасение. Одному мне бы не справиться.
– Помилуйте, не стоит…
– И все-таки…
Мы раскланялись.
– А теперь, если вы не против, я хотел бы удалиться. Долго пребывать в обществе кота, с крысиной точки зрения, чистейшее безрассудство, – Калистрат попятился и пропал.
Он прервал мои рассуждения.
О чем я?
Об антропологии, археологии, искусствознании, истории, критике, психоанализе или философии?
Видимо, обо всем подряд.
Воистину! Перечисленные области человеческой ограниченности имеют все основания для существования.
Особенно в тот момент, когда я, вытянув лапы, растопырил когти, выгнул спину и потянулся.
В сущности, я, не переставая, думаю о человеке.
О его роли.
О его месте. (О месте его роли, о роли его места.)
По-моему, человек не обладает никаким знанием о будущем.
Иначе как объяснить все эти глупости?
В нашем случае, вообразите, создали корабль, научили его ходить под водой, засунули в него команду и отправили к черту на рога, подозреваю, ради чего-то великого.
Такого же, как каналы на Марсе.
И что в результате? Они лежат в каюте и рассказывают друг другу всякую всячину.
Ну, может быть, я не прав, и теперь они уже не рассказывают, а заняты, к примеру, соотнесением причины и следствия в поисках законов, скажем, бытия?
Посмотрим.
Послушаем.
Говорит Шурик:
– Нельзя отличника держать месяц на корабле. Он с ума сойдет. А тем более если это Саня Бережной, который физически очень огромен и даже страшен, но в трезвом состоянии отличник и отличается скромностью.
Саня вообще почти не пьет, но тут он напился по случаю содержания взаперти, пришел в центральный и говорит начальству: «А с вами, блядьми, я еще разберусь! Вот поссу. Сейчас. И разберусь». Испугал начальство до смерти и полез наверх ссать. И тут ему плохо стало, и он блеванул на середине вертикального трапа. А начальство видит, как что-то сверху льется, и в ужасе замечает: «Он на нас ссыт».
Да. Я был прав. Не думают они о великом.
В частности, они не думают о Родине.
(Я тут где-то видел слово «родина» с большой буквы.
Поначалу я решил, что это женская фамилия, а потом понял, что ошибался.
Родина – это объединяющий символ. Это та булавка, которая всех их скрепляет.
Видимо, это очень большая булавка, и она не только скрепляет, но лишает.
Всяческой возможности.
Что, скорее всего, хорошо с точки зрения все той же Родины.)
Шурик продолжает:
– В зоне курить нельзя. Особенно лейтенантам, потому что это зона режима радиационной безопасности.
А Леня Бычков стоял перед дверью родного контрольного дозиметрического поста и курил.
Дверь открылась, и Леня Бычков нос в нос столкнулся с командующим Северным флотом.
– Я-б-т! – сказал Леня и зажевал охнарик.
В смысле он его выплюнул, но со стороны показалось, что зажевал.
– Товарищ лейтенант! – заговорил командующий, – объявляю вам замечание за курение в зоне.
– Я-б-т! – сказал Леня.
На обеде в кают-компании он мучился. Как доложить старпому? С одной стороны, замечание – это ерунда, но, с другой стороны, доложить-то надо.
– Анатолий Иваныч…
– Ну? – старпом ел суп.
– Вот… замечание…
– Ну? (Последнюю ложку.)
– Ведь его никуда не заносят…
– Бычков! – старпом безмятежен. Он откидывается в кресле и неторопливо вытирает рот случившейся салфеткой. – Что ты спрашиваешь всякую… (скорее всего, чушь). Запоминай, пока я жив: замечание объявляется, чтоб напомнить военнослужащему о воинском долге. Так? Оно не записывается. Понятно? Это же аксиома, Бычков! Из Устава. Внутренней службы. Ну и так далее, и так далее, и прочая, прочая херня!
– Мне вот… замечание… сделали…
– Ну…
– За курение…
Старпом насторожился. В этом Ленином мычании что-то было.