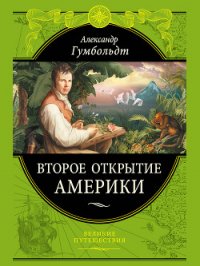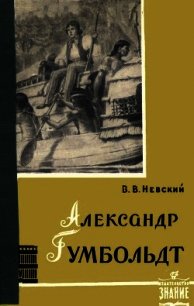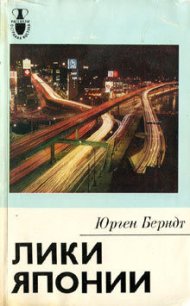Дар Гумбольдта - Беллоу Сол (читать книги онлайн без txt) 📗
— Я никогда не думал, что ты украл его деньги, — сказал Хаггинс. — Насколько мне известно, это он нагрел тебя на пару тысяч. Он что, подделал чек?
— Нет. Как-то, расчувствовавшись, мы обменялись незаполненными чеками. Он своим воспользовался, — ответил я. — Только выудил он не пару, а почти семь тысяч.
— Я вел его финансовые дела. Уговорил Кэтлин отказаться от всяких п-п-прав. А он сказал, что я беру комиссионные. Обидно до чертиков. Короче говоря, больше беднягу Гумбольдта я не видел. Он обвинил какую-то пожилую женщину, работающую в отеле на комму-комму-коммутаторе, в том, что та разложила на его кровати развороты с голыми де-де-девочками из «Плейбоя». Он схватил молоток и попытался ударить старушку. Его увезли. Снова шо-шоковая терапия! От одного этого можно зарыдать, как подумаешь, какой жи-живой, оригинальный, милый и удивительный он был человек, а какие шедевры! Да, у этого общества много чего на-на-на совести.
— Да, он был прекрасен и благороден. Я любил его. Хороший он был человек. — Странные слова для шумной вечеринки. — Он всем сердцем хотел приобщить нас к изяществу и изысканности. А к себе предъявлял невероятно высокие требования. Так ты говоришь, его бумаги заграбастал тот самый дядя-игрок?
— И одежду, и ценности.
— Смерть племянника, должно быть, сильно потрясла его, а может, даже напугала.
— Он тут же примчался из Ко-кони-Айленда. Гумбольдт устроил его в дом престарелых. Этот старый букмекер, наверное, п-п-понимал, что бу-бу-бумаги человека, который удостоился такого длинного некролога в «Таймс», чего-нибудь стоят.
— Гумбольдт оставил ему какие-нибудь деньги?
— Страховой полис. Если он не спустил все на лошадей, то живет неплохо.
— Под конец Гумбольдт пришел в себя, если я не ошибаюсь.
— Он написал мне прекрасное п-п-письмо. Переписал несколько стихотворений на хорошую бумагу. Одно — о своем папаше-венгре, скачущем с кавалерией генерала Першинга схватить Панчо.
— Оскалившиеся кони, щелканье кастаньет, колючки кактусов и выстрелы ружей…
— Ты процитировал не совсем верно, — заметил Хаггинс.
— Это ты передал Кэтлин наследство Гумбольдта?
— Да, я. Она как раз сейчас в Нью-Йорке.
— Правда? И где она? Я был бы рад повидаться с нею.
— Заехала сюда по пути в Европу. Не знаю, где она ос-oс-остановилась.
— Надо будет выяснить. Но сперва нужно навестить дядю Вольдемара в Кони-Айленде.
— Он тебе ничего не отдаст, — сказал Хаггинс. — Он вздорный старик. Я писал ему и звонил. Без толку.
— Пожалуй, в такой ситуации звонка недостаточно. Он добивается, чтобы приехали лично. Он же не виноват, что его никто не навещает. Кажется, после смерти матери Гумбольдта у него больше не осталось сестер? Вот он и хочет, чтобы кто-нибудь приехал к нему на Кони-Айленд. И использует бумаги Гумбольдта как наживку. Может быть, он отдаст их мне.
— Уверен, ты сумеешь его у-у-у… Сумеешь его убедить, — сказал Хаггинс.
* * *
Рената была ужасно недовольна, когда я сказал, что ей придется поехать со мной на Кони-Айленд.
— Что, в дом престарелых? На метро? Не втягивай меня в это. Езжай сам.
— Ты должна поехать. Ты мне нужна, Рената.
— Ты срываешь все мои планы. Мне нужно сделать кое-что по работе. Это же бизнес. И потом, дома престарелых меня угнетают. Последнее посещение такого заведения довело меня до истерики. По крайней мере, избавь меня от метро.
— Другой транспорт туда не ходит. Развлечем старого Вольдемара. Он никогда не видел такой женщины, как ты, а он был азартным парнем.
— Прибереги свою лесть для другого случая. Что ж ты молчал, когда телефонистка назвала меня миссис Ситрин? Словно язык проглотил.
Даже когда мы уже шли по набережной, Рената все еще злилась и сердито вышагивала впереди меня. В метро было ужасно: грязь и совершенно безумные граффити, сделанные цветными струями из аэрозольных баллончиков. Шагая, Рената подбирала полы дубленки, и полосы овечьего меха испуганно вздрагивали. Голландская шляпа с высокой тульей сидела на затылке. Анри, старый парижский дружок Сеньоры, который явно не мог быть отцом Ренаты, восхищался ее лбом. «Un beau front! — повторял он снова и снова. — Ah, ce beau front!» Прекрасное чело. Только вот что внутри? Сейчас я смотрел ей в затылок. Она шагала впереди, обиженная и сердитая. Ей хотелось наказать меня. Но на Ренату я никак не мог злиться. Ее присутствие доставляло мне удовольствие, даже когда она сердилась. Люди оглядывались ей вслед, когда она проходила мимо. Шагая позади нее, я восхищался движениями ее бедер. Мне не к чему было доискиваться, что скрывается под этим beau front ; ее мечты, вероятно, шокировали бы меня, но аромат Ренаты сам по себе наполнял ночи неслыханным успокоением. Наслаждение от того, что спишь с нею, несравнимо выше тривиального удовольствия разделять ложе с женщиной. Даже лежать без сознания рядом с Ренатой — уже выдающееся событие. Даже бессонницу, болезнь, мучившую Гумбольдта, Рената сделала бы приемлемой. Ночью от ее груди моим рукам передавались возбуждающие токи. И я начинал представлять, как эти токи текут по моим пальцам, словно некое невидимое электричество, а затем поднимаются вверх до самых корней зубов.
Белое декабрьское небо висело над мрачной Атлантикой. Природа, казалось, напоминала нам, что жизнь груба и жестока и что люди обязаны утешать друг друга. По мнению Ренаты, именно этой своей обязанности я и не выполнял, потому что, когда телефонистка «Плазы» назвала ее миссис Ситрин, Рената положила трубку, повернула ко мне сияющее лицо и воскликнула: «Меня назвали миссис Ситрин!», я не нашелся, что ответить. Люди действительно гораздо наивнее и простодушней, чем мы привыкли думать. Как мало нужно, чтобы они просияли. Я и сам такой. Зачем скрывать от них свою сердечность, когда видишь, как они сияют. Чтобы еще больше обрадовать Ренату, я мог сказать: «Ну конечно, детка. Ты была бы замечательной миссис Ситрин. Почему бы и нет». Что мне стоило?.. Разве что свободы. Но в конце-то концов, какая мне польза от этой драгоценной свободы? Я полагал, что у меня впереди еще уйма времени, чтобы как-то распорядиться ею. Но что важнее, это море неиспользованной свободы или счастье проводить ночи рядом с Ренатой, счастье, которое даже забытье делает особенным, сладостным небытием? Когда эта проклятая телефонистка назвала ее «миссис», мое молчание сделалось порицанием Ренате, мол, никакая она не миссис, а просто шлюха. И это ее разозлило. В погоне за своим идеалом она становилась чрезвычайно обидчивой. Но у меня тоже были идеалы — свобода, любовь. Я хотел, чтобы меня любили просто так. А не из меркантильных соображений, как в действительности. Это одно из тех американских стремлений и чаяний, которое во мне — уроженце Аплтона, выросшем на улицах Чикаго, — укоренилось слишком прочно. Правда, я несколько страдал от подозрения, что времена, когда я мог рассчитывать на бескорыстную любовь, уже прошли. Боже мой, с какой скоростью жизнь меняется в худшую сторону!
Некоторое время назад я сказал Ренате, что со свадьбой придется подождать, пока не уладится конфликт с Дениз.
— Да брось ты, — отмахнулась Рената, — она перестанет судиться с тобой, только когда тебя отвезут на Вальдхейм и положат рядом с папой и мамой. Она вполне протянет до конца века. А ты?
— Конечно, провести старость в одиночестве ужасно, — сказал я. И отважился добавить: — Ты можешь представить, как толкаешь мою инвалидную коляску?
— Ты не понимаешь настоящих женщин, — сказала Рената. — Дениз хотела вывести тебя из строя. Но из-за меня у нее ничего не вышло. Жалкая лисичка Дорис, которая корчит из себя Мэри Пикфорд, тут ни при чем. Это я сберегла твою сексуальную силу. Я знаю, как это делать. Женись на мне, и ты и в восемьдесят будешь трахать меня. А в девяносто, когда уже не сможешь, я все равно буду любить тебя.
Итак, мы шли по набережной Кони-Айленда. И точно так же, как грохот от моей палки, которой я мальчишкой елозил по заборам, походка Ренаты выводила из равновесия продавцов воздушной кукурузы, сладкой ваты и сосисок. Я шел за ней следом — пожилой мужчина, но в хорошей форме, на лице морщины — следы тревог, но на губах играет улыбка. Я и в самом деле чувствовал себя необычайно хорошо. Даже не знаю, что привело меня в такое прекрасное расположение духа. Не может быть, чтобы оно оказалось результатом только лишь физического здоровья, ночей, проведенных с Ренатой, и хорошего обмена веществ. Или даже временного избавления от проблем, чего, согласно мнению некоторых мрачно настроенных специалистов, совершенно достаточно, чтобы сделать людей счастливыми, и что, возможно, и есть единственный источник счастья. Нет, решительно шагая позади Ренаты, я склонялся к мысли, что нынешним состоянием обязан своему новому отношению к смерти. Я начал рассматривать другие возможности. И одно это помогло мне воспарить. Но еще более радостным оказалось существование места, куда можно воспарять: необжитое, заброшенное пространство. Его не замечают, хотя это самая значительная часть целого. Неудивительно, что люди сходят с ума. Ведь что получается, если допустить, что мы — раз уж мы присутствуем в этом материальном мире — являемся самыми высшими из всех существ? Если допустить, что цикл существования заканчивается нами и после нас ничего уже не будет? При таком допущении, кто обвинит нас в том, что мы бьемся в припадках! Но если перед нами открыт космос — в метафизическом смысле выбор становится несравненно шире.