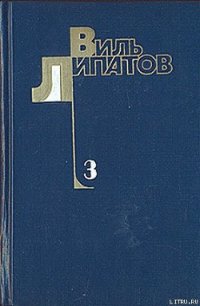Лев на лужайке - Липатов Виль Владимирович (электронные книги без регистрации TXT) 📗
Мы идем на планерку. Садимся по рангу. Иван Иванович в центре, слева — Коростылев, справа — Ваганов. У меня сегодня нет ни одной мудрой мысли, выступать не буду. Иван Иванович недовольно кашляет и хрипло говорит:
— Вы думаете, в руках у меня пропагандистская статья? Это писанина для «Мурзилки»…
Все остальное известно. Сейчас он минут на пятнадцать займет нас рассказом, как он готовился к докладу в юбилейный День Победы. Мы это выучили назубок и начинаем заниматься своими делами: дочитывать материал, рисовать в блокноте чертиков, дремать. Я тоже занят: разглядываю люстру и стараюсь вспомнить, сколько было планерок, когда мы не слышали о подготовке к докладу. Пожалуй, через три раза на четвертый… Я лет двадцать, наверное, не доживу до тех времен, когда можно будет рассказывать на планерке все, что захочется… Коллектив в редакции сплоченный, подхалимаж не в фаворе, и все слушают редактора с нескрываемой скукой. Есть и бойцы — те демонстративно зевают и переговариваются. Через десять минут после повествования о докладе планерка кончается — народ в «Заре» нетерпеливый. Это поставить в номер. Это не ставить! Привет!
Беда в том, что Ивана Ивановича любят. Он добрый и отзывчивый. С ним легко работать, интересно разговаривать, коли речь не идет о подготовке к докладу. Он так много знает, что диву даешься. Он осторожен, но не труслив, иногда умеет предвидеть. Он хороший редактор, но он стар, и это отражается в тысяче мелочей, в каких — и объяснить-то невозможно. Стар, и все.
Когда мы теснимся в дверях зала, Иван Иванович жестом приглашает меня остаться. Вот еще одна его странность: не терпит собственный кабинет, любит ходить по отделам, просто гулять по коридору. Если ему срочно звонят, помощники и секретари Ивана Ивановича обшаривают всю редакцию и не всегда находят — кто догадается, что редактор сидит в машбюро! Мы занимаем прежние места за столом президиума. Он строго и деловито осматривает меня, но говорит неожиданное:
— Молодец! Хорошо выглядишь!
Сам он выглядит плохо: мешки под глазами, одышка, синюшность кожи, но глаза бойко поблескивают. Он говорит:
— Слушай, а не ждут ли тебя в Комсомольске-на-Амуре? Связь времен, связь поколений. А? Выпишем командировочку? А?!
Это надо было сделать год-два назад, материал так и просился на полосу. Две газеты сделали то, что сейчас мне предлагал Иван Иванович, но сделали плохо, по-школярски, в духе тридцатых годов. Выдать полосу лучше их — раз плюнуть… Глаза Ивана Ивановича продолжают светиться елочными звездами, он ждет от меня бурного одобрения, и я подыгрываю старику, которого за что-то почитаю.
— Прекрасно! — говорю я. — Мне нужен пустяк — газеты тридцатых годов.
Иван Иванович смеется так, точно выиграл у меня в преферанс пятьсот вистов. Он говорит:
— Лежат, голубчики, у меня на столике, тебя дожидаясь. — Ребенок, ей-богу! Как это всегда бывает, с бухты-барахты в голосе его вдруг звучит металл: — Это должен быть не осенний теплый дождичек, а гроза. — Он откровенно счастлив. — Лежат, голубчики, у меня на столике!
II
Я и предполагать не мог, что полосу «Вечно молоды» прочтут наверху и скажут: «Хорошо!», а Иван Иванович приплетется ко мне в кабинет и облобызается со мной. Я надеюсь, что читатели исповеди-исследования — одновременно читатели и подписчики «Зари», и не сомневаюсь поэтому, что они помнят полосу «Вечно молоды». Маленький шедевр, хоть казните меня за хвастовство! Полоса незатейлива, проста, как морковка, но все было подлинным. Меня, знаете ли, премировали — сто рублей. Мне позвонил один крайне значительный человек, он поздравил и простецки пригласил забегать, когда буду в доме на Старой площади. Я спросил:
— Это обязательно?
Он развеселился и сказал, что вот теперь — после нахального вопроса зазнайки — обязательно, и он мне покажет кузькину мать. Мы положили трубки с хохотом. Все было отлично до семи часов вечера, пока не пришло известие, что Костя, мой бедный сын Костя, смотался в неизвестном направлении. Записка меня ошеломила: «Я не был и не буду мещанином». Это не могло относиться ни ко мне, ни к матери, ни к деду, ни к бабушке… Он совершил преступление, расколотил молотком пианино и сжег все ноты, кроме одного листа: «Главное, ребята, сердцем не стареть…» Поразмыслив, я приказал своим не искать Костю. Я сел в кабинете — теперь у меня был домашний кабинет — и стал раскладывать пасьянс «Наполеон» — ничегошеньки не сходилось, и я в последний и окончательный раз решил Костю не разыскивать и домой не заманивать. А вот кроссворд в «Вечерке» я отгадал от начала до конца.
— Эрудит, твою мать! — зло сказал я, после чего лег и мгновенно уснул. Уверен на сто процентов, что ко мне никто не заходил.
Снились мне Коростылев и отцовские оранжевые «Жигули». Это я обнаружил в четыре часа ночи, проснувшись счастливым и бодрым, как школьник в первый день каникул. Я принял душ, сел за стол и до прихода машины в девять тридцать написал передовую. Что хотите со мной делайте, но на работу я прибыл счастливым — передовая удалась…
День обещал быть хорошим — первой сквозь стеклянные двери прошла женщина…
Часов через пять узналось, что потерялась моя жена Вера, я помчался домой, были подняты все силы, чтобы найти ее, и я — это, к сожалению, объяснимо — представлял ее не случайной жертвой города, а добровольной. Когда поиски были в разгаре, Вера пришла вместе с Костей, спокойным и прилично одетым: на нем был новый костюм. Усталая Вера сказала:
— Он сам тебе все расскажет, а я должна проспать сутки.
Косте шел тогда шестнадцатый год, походил он лицом на мать, фигурой на меня, а манерами на бабушку — этакая вдумчивая медленность. В нем не было ни грамма суетности, которая все-таки есть в каждом из нас. Он захотел разговаривать со мной почему-то в моем кабинете, а не в своей комнате. Позже я понял причину. Он любил меня и думал, что в кабинете ему будет легче скрывать любовь. Он шел первым, я позади, поражаясь, что он в пятнадцать лет был на полголовы выше меня, и в каждом его движении чувствовалась зрелая основательность.
Он сел, скромный и спокойный, значительный и сильный. Было понятно, что он первым разговор не начнет, а мне что делать? Спросить: «Ну, как дела, сын?» или: «Как ты смел, как ты…?» Смешно! Эх, если бы он знал, какой его отец был в пятнадцать лет! Я походил на бочку с порохом, которая должна вот-вот взорваться! И все-таки я нашел, с чего начать.
— Костюмчик клевый, Костя. Где дают?
Он принял мой тон.
— Хошь достану?
— А мой размер ты знаешь?
Костя засмеялся:
— А ты, папа, безразмерный.
Вот так. Спокойный, скромный и — любящий, поверьте мне, чувствующий ко мне родство, уверенный в ответной любви. Ни разу в жизни я его не ударил, даже не закричал как следует. Воспитывала Костю мать, а я трудился, трудился и трудился, чтобы Константин Ваганов ни в чем не нуждался, носил самые «фирменные» джинсы и куртки на ста замках-молниях, чтобы, наконец, называя свою фамилию, сын мог произносить ее громко, если ему это понадобится. Я сказал:
— Ну ладно, ты меня оскорбил, сделал мне больно, и я, наверное, имею право тебя спросить: за что ты меня презираешь?
Он ответил:
— Папа, я тебя не презираю, а жалею за то, что сам не умеешь жить и другим мешаешь…
— Факты, Костя, факты!
Он по-мальчишески тяжело вздохнул:
— Эх, папа, если бы были факты! Но я чувствовал, что мы живем неладно. — Он вдруг жалко улыбнулся. — Ты всегда был справедлив ко мне, я у тебя учился мужеству, трудолюбию. Я во многом завидую тебе — например, твоему чувству юмора. Оно тебя так украшает… — Он обнял меня, «пободался», как мы называли это с ним раньше, а сказал, в сущности, страшное: «Ты сам не живешь и другим не даешь жить…»
— Костя, послушай, Костя, тебе пятнадцать лет, а ты говоришь как тридцатилетний. Может быть, ты знаешь, как надо нам жить?
— Если бы я знал, я не ушел бы из дома. По-моему, нам надо всем посоветоваться с бабушкой. Сесть как-нибудь и попросить: «Бабуль, научи нас жить!..» Кажется, я нашел сравнение: ты похож на жреца, служащего самому жестокому божеству… — И опять пободался со мной. — Вот ты какой престрашный, папуль! У! И никто лучше меня не знает, какой ты умный. Если мама учила меня быть добрым и держать вилку в левой руке, то ты научил меня думать и говорить… Поэтому я и ушел из дома.