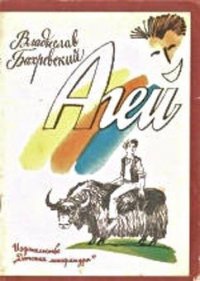Боярыня Морозова - Бахревский Владислав Анатольевич (читаемые книги читать .txt) 📗
– Нам ли судить о государевых делах? – Михаил Алексеевич сложил перед лицом троеперстие, перекрестился. – Деяния святителя Никона угодны Богу. Служба по исправленным книгам стройна и строга, веры на святой Руси не убыло. Ведь, если подумать, до Никона церковь наша отщепенцем была, а теперь в едином лоне со святым Востоком.
– Дядюшка, врага похваляешь! Ослепли вы, бедненькие, от наваждения, не видите, что книги Никоновы засеяны римскими плевелами. Гнушаюсь, гнушаюсь нововводных преданий богомерзких! А о вас, впавших в ереси, молюсь.
– О, чадо Феодосие! – воскликнул старец, снова осеняя себя трехперстным знамением. – Вся беда твоя – привычки смирить не хочешь в себе! Как в детстве рука привыкла складывать пальцы, так и теперь себя балуешь. Очнись! Умоляю тебя: оставь распрю! Еще не поздно, еще терпят тебя любви ради к твоему покойному мужу, к деверю, к прежним добрым дням.
– А не то, как батьку Аввакума, – во льды, в яму! Так, что ли? Пострадать за Христову правду – не убоюсь.
– Какая же это Христова правда?! – закричал в отчаянии Михаил Алексеевич. – Злейший враг прельстил тебя и на погибель ведет, протопоп сей окаянный!.. Я имя-то его помянуть почитаю за грех за многие его ненависти к добрейшему великому государю, ко всему архиерейству русскому! Не за Христа, за его учение умереть собралась. О, волк! О, Аввакумище! Погляди, не черен ли стал у меня язык от его имени? Собором ведь проклят. Собором!
– Не тако, дядюшка! – Федосья Прокопьевна смиренно потупила очи. – Не тако! Сладкое горьким нарекаешь, а горькое сладким. Авва, страдалец, закопанный в Пустозерске, Аввакум, дядюшка, – не Аввакум, ибо не кум он вам, истинный ученик Христов. За закон Владыки Небесного страждет. Не прельстился сладким кусом да подлыми почестями, как архиереи-то, как митрополиты, как ваш Иоасаф, гонитель истинного русского православия.
– Боже мой! Боже мой! – запричитала Анна Михайловна. – Съели тебя старицы белевки, проглотили твою душу, аки птенца, отлучили тебя от нас! Сестрица милая, голубушка, хочешь, в ножки тебе поклонюсь, расцелую чуни твои – не отрекайся от всего того, что Богом дано роду твоему, тебе и твоему сыну. Федосьюшка, твоим ли умом не дорожил мудрый Борис Иванович? Куда же ты его подевала? Ну ладно, нас ты презираешь, но о сыне-то, о светлом Иване Глебовиче, радеешь ли? Едино у тебя и есть чадо, да еще какое чадо-то! Кто не удивится красоте его? Тебе бы сесть в изголовье сыновье, затеплить свечу чистейшего воска над красотою его и зреть доброту лица его и веселитися – вон какое чадо даровал тебе Бог! Алексей-то Михайлович с Марией Ильиничной, покойницей, столько раз дивились красоте Ивана Глебовича, а ты его ни во что ставишь, отрицающе любовь самодержцев. Ты в разум-то возьми в свой, гордыней обуянный! Ты самодержцу противишься! А ведь повиновение царю – участь сладчайшая, ибо Господом заповедано. Что станется с тобой, с Иваном Глебовичем, со всем достоянием твоим, коли на дом Морозовых за твое прекословие приидет огнепалая ярость царева? Повелит разграбить – и станешь беднее последней нищенки, ибо просить не умеешь. Что тогда станется с Иваном Глебовичем? Великое спасибо скажет тебе за твое немилосердие.
Федосья Прокопьевна подняла глаза, и был в них сияющий восторг, ужаснувший Анну Михайловну.
– Я тебя, сестрица, слушала, и окуналось мое сердце в полынь горькую. Неправду глаголешь. Нет, не прельщена я белицами, черницами, но по благости Спасителя моего чту Бога Отца целым умом, а Ивана люблю аз и молю о нем Пресвятую Троицу беспрестани. Но еже вы мыслите, будто аз ради любви к Ивану душу свою повредить способна – ни! сестрица, ни! дядюшка! Ишь сеть какая: сына своего жалеючи, отступи от благочестия! – Перекрестилась древним русским знамением, соединив два перста, и, крестясь, молвила: – Сохрани мене, Сыне Божий, от сего неподобного милования! Не хощу, не хощу, щадя сына своего, себя погубити. Верно глаголете: единороден мне есть, но Христа аз люблю более сына. Да будет вам ведомо, ежели умышляете сыном загородить мне пути к Христу, – никакое лукавство мне не страшно. Дерзновенно реку вам: ежели вы приволочете Ивана, солнце мое, на Пожар и кинете псам на растерзанье, ужасая меня, – не отступлю от веры. Что красота сыновья пред красотою Бога – тлен. Не содрогнусь. А меня станете убивать – возликую, смерть за Спасителя – спасение.
– Боже! Федосья, ты как муха в тенетах! – Слезы струйками полились из глаз Анны Михайловны. – Съест паук твое сердце, а нам только головой о стену биться!
Михаил Алексеевич поднялся, по-новому, как заезжие патриархи научили, щепотью, перекрестился на иконы. Поднялась и Анна Михайловна. Поклонилась Федосье Прокопьевне до земли. Посиневшими губами прошелестела:
– Прощай, бедная сестрица.
Михаил Алексеевич ушел молча, без поклона.
Повыползали тотчас из укрытий старицы, явилась мать Меланья, окружили Федосью Прокопьевну, как вспугнутые галки.
– Отпусти нас, боярыня! Схватят нас, в тюрьмах запрут.
– Се громок над моим двором погромыхивает, – сказала Морозова. – Горько мне слышать от вас – «боярыня», ибо ведаете: на мне образ ангельский. Зовите батюшку, помолимся… И не бойтесь дома моего. Когда пойдут на нас с огнем, я сама распахну для вас окна и двери: летите, голубицы, на все четыре стороны.
Театр
Алексей Михайлович слушал старца Ртищева вместе с Артамоном Сергеевичем. Старец пересказывал как можно подробнее, что говорил он сам, что говорила Анна Михайловна и какие были ответы боярыни на увещевания. Закончил рассказ, горестно всплеснув руками:
– Аввакумом, безумная, отгородилась от света Господнего, от тебя, государь, от всех нас. Выставляет два пальца с такой грозою, будто с пальцев тех вот-вот молния слетит.
– Всей опоры у нее – упрямство. – Лицо у Алексея Михайловича было обиженное, злое. – Тяжко ей бороться со мною. Един победитель, и знает она, кто одолеет, и я знаю.
Повел по-бычьи головою, поднялся, пошел было во внутренние покои, но вернулся, сказал Матвееву:
– Царю за терпение от Бога хвала. Приласкай, Артамон, Ивана Глебовича. Его все чуждаются, а он мне дорог. Огради чадо от безумной матери. – И вдруг вспомнил: – Ты же в Немецкую слободу собирался за музыкой, вот и возьми молодца с собою.
Артамон Сергеевич тотчас и послал за Морозовым.
Поехали в одной карете. Одет Иван Глебович был скромно. Шуба крыта темным сукном. Сапоги тоже темные, шитые серебряной нитью, шапка из куницы.
Лицо чистое, белое, как молоко, без румянца, ресницы длинные, девичьи, брови – две стрелы к переносице. И от этих стрелочек бровей, от белизны, от чистоты – печать горького недоумения. Глаза серые – душа в них до самого донца.
– Иван Глебович! – Артамону Сергеевичу хотелось сказать что-то хорошее, но с сочувствием лезть не больно-то прилично. – Иван Глебович, а что бы тебе не пойти служить в мой приказ? Посольские дела в государстве наиважнейшие.
– О, господин! – поклонился юноша. – У Бога все дыхания наши на счету. Что Бог пошлет, то и будет.
И тут их бросило друг к другу на глубокой рытвине.
– Ты прав! – засмеялся Артамон Сергеевич, чувствуя доброе расположение к молодому Морозову.
В слободе гостей ждали, повели в школу. При школе была просторная зала с помостом. Помост закрыт сшитыми кружевными скатертями, купленными у баб в стрелецкой слободе, там что ни дом – рукодельница.
Гостям и пастору Якову Грегори поставили кресла. Тотчас плеснуло медью литавр, затрубила труба, и под истому скрипок и виол кружева взмыли вверх, и явилось чудо. На помосте стояли, как настоящие, пальмы, смоквы, вились виноградные лозы. В правом углу сияло горячим золотом солнце, в левом – латунная луна. Прошли туда и сюда слоны, львы, жирафы. Флейта запиликала по-птичьи. И тут явились ангелы. Белые крылья, белые платья, золотые нимбы. Снова заиграли скрипки, виолы, ангелы подняли крылья и серебряными альтами запели до того стройно и сладкоголосо, что у Артамона Сергеевича защипало в носу. Покосился на Ивана Глебовича, а тот глаза утирает платочком.