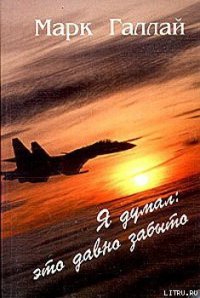Испытано в небе - Галлай Марк Лазаревич (читать книги без регистрации .txt) 📗
Впрочем, и в меховых перчатках необходимости не было. Кабина была герметична, и в ней независимо от высоты полёта сохранялись давление воздуха, ненамного отличающееся от земного, и ровная комнатная температура. О том, какой трескучий мороз царит снаружи, можно было судить только по показаниям забортного термометра.
Современному авиационному пассажиру, да и профессиональному лётчику наших дней, наверное, представляется, что иначе и быть не может. Но мы, грешные, успели полетать по полтора—два десятка лет в негерметичных, а поначалу — ещё того крепче — в открытых кабинах, где лётчик был прикрыт от обжигающе-ледяной струи встречного потока воздуха только лёгким плексигласовым козырьком. Летать приходилось в тёплых комбинезонах, унтах, а порой и в масках — не кислородных, а обычных, прикрывающих все лицо, которое иначе было бы моментально обморожено.
Особенно противно было ходить на высоту жарким летом. Процесс облачения во все эти полярные доспехи выполнялся у самого самолёта — в тени под крылом. При этом лётчик — наподобие окружённого придворными лица королевской фамилии во время утреннего туалета — только протягивал руку или ногу, а верные друзья-механики проворно запаковывали его да ещё потом подсаживали в кабину. Но, несмотря на все эти меры предосторожности, к моменту взлёта лётчик успевал стать мокрым как мышь. А на высоте, по мере того как становилось холоднее, пот остывал: возникало такое ощущение, будто вам за шиворот налили холодной воды.
В конце полёта все повторялось в обратном порядке. Опускаясь, как в только что вытопленную печку, в горячие приземные слои атмосферы, едва «подсохший» лётчик взмокал вторично. Своей кульминации этот процесс достигал на посадке. А предстояло ещё зарулить на стоянку, выбраться из кабины, снять парашют и лишь после этого с помощью тех же друзей-механиков вылезти из насквозь мокрого — хоть выжимай! — обмундирования.
Образное выражение — «семь потов сошло» — приобретало совершенно реальный смысл.
Нетрудно представить себе, с каким одобрением встретили лётчики такое новшество, как закрытая, а затем и герметическая кабина.
…И вот наступил момент, когда экипаж Николая Степановича Рыбко, второго лётчика Ивана Ивановича Шунейко и ведущего инженера Вартана Никитовича Сагинова, сопровождаемый добрыми пожеланиями, шутками, поручениями, подначками провожающих (иными словами, всех свободных в этот момент от полётов лётчиков-испытателей нашего института), погрузился в транспортный Ли-2 и улетел на завод. Там была уже готова к выходу в свет первая из двадцати машин малой опытной серии. Наших друзей ждала серьёзная работа: первые — это всегда первые!
Они прилетели через две недели.
На заводском аэродроме Рыбко успешно сделал первый вылет и несколько доводочных полётов, но настоящие испытания по основной программе должны были проводиться у нас, на базовом аэродроме.
Ожидание в этот день началось с самого утра.
Наконец радиограмма: вылетели. Ещё через час в диспетчерской, где вопреки грозной табличке на двери «Вход посторонним категорически воспрещается» торчали все свободные лётчики (их изгнание оттуда существенно затруднялось отсутствием точной юридической трактовки термина «посторонний»), раздался телефонный звонок из радиооператорской:
— Есть прямая связь с бортом Рыбко. Все нормально. Будут у нас через тридцать восемь минут.
Точно — минута в минуту, как было обещано, на востоке возник и стал непрерывно усиливаться ровный, басовитый гул четырех моторов, и из-за леса показалась широкая чёрточка с налепленными на ней пятью кружками: четырьмя моторами и фюзеляжем.
Ту-4 приближается, проходит над нами — теперь мы видим его в плане. Корабль делает круг, заходит на посадку, мягко приземляется и заруливает на стоянку. Экипаж вылезает из кабины на землю. Поздравления, приветствия, вопросы, не требующие ответов, ответы на незаданные вопросы — словом, несусветный галдёж!
Виновник торжества — свежий, беленький, аккуратный Ту-4 № 001 — стоит на линейке, окружённый множеством стремянок, на которых уже устроились добрых два десятка механиков. Уютно потрескивают остывающие моторы. На кабины натягивают чехлы. Машина добралась до дому…
К концу дня, когда ажиотаж несколько утих, я вытащил Рыбко на лётное поле и там, прохаживаясь по траве за хвостами выстроенных вдоль линейки самолётов, получил, наконец, более подробную информацию о «Ту-четвёртом».
— Моторы ничего, — говорил Коля, — работают. Управление немного туговато, особенно по крену: то ли тросы новые, ещё не вытянулись, то ли в роликах трение великовато; но в общем, чтобы штурвал крутить, надо работать. Оборудование? Представь себе, вроде действует! По крайней мере то, что мы уже включали…
Информация была обнадёживающая.
И своевременная — через несколько дней после торжественного прибытия «единицы» я улетал на завод за «двойкой».
По роду своей работы мне и раньше не раз приходилось бывать на серийных авиационных заводах. То надо было перегнать какую-нибудь машину, то участвовать в поверке техники пилотирования заводских лётчиков, то — бывало, к сожалению, и такое — поработать в составе очередной аварийной комиссии. Так что едва ли не все заводские аэродромы, а главное, люди, трудящиеся на них, были мне хорошо знакомы. Это немаловажно, так как весь экипаж Ту-4 № 002, за исключением командира корабля, был целиком укомплектован из местных специалистов.
Вторым лётчиком и одновременно ведущим инженером самолёта был назначен Николай Николаевич Аржанов — в будущем Герой Советского Союза и заслуженный лётчик-испытатель СССР. Он был, что называется, коренным аборигеном местной лётно-испытательной станции и много лет поработал на ней в самых различных амплуа: и ведущим инженером, и лётчиком-испытателем, и одно время даже начальником станции. Кроме всех прочих профессиональных качеств, Николай Николаевич отличался сугубо атлетической комплекцией этакого нордического богатыря — обстоятельство в полётах на тяжёлых кораблях отнюдь не лишнее. А главное, он был насквозь свой человек на заводе, знал всех и вся, так же как все знали его, и во всем, что касалось так называемой специфики местных условий на него можно было смело и полностью положиться. Впрочем, в ходе полётов быстро выяснилось, что не только в этом: оказалось, что и летает он уверенно, и новую машину знает глубоко, и в сложных обстоятельствах не теряется, — короче говоря, жаловаться на второго лётчика и ведущего инженера явно не приходилось.
Любимым его обращением к товарищам по работе было почему-то «боярин» (наподобие «короля» у Гринчика), а в случае особого благорасположения к собеседнику — «гросс-боярин». Что в точности должна была обозначать эта тевтонско-славянская словокомбинация — не знаю, но тем не менее, удостоившись этого обращения впервые, я почувствовал себя польщённым.
Бортинженером у нас был Антон Порфирьевич Беспалов. Надо сказать, что бортинженер на тяжёлом многомоторном корабле — фигура исключительной важности. Львиная доля управления силовой установкой в полёте осуществляется с его пульта, который соответственно и выглядит наподобие лабораторного стенда. Управляться со всем своим сложным хозяйством бортинженер обязан «по-лётному» — быстро, чётко, безошибочно, без длительных размышлений и раскачки. А вернувшись из полёта, он же должен руководить работой десятков людей, составляющих наземную техническую бригаду. Не зря его называют «хозяином самолёта»! В лице Антона Порфирьевича мы имели именно такого хозяина: грамотного, знающего, любящего свою технику, умеющего организовать работу подчинённых, спокойного и исполнительного в полёте.
Все остальные члены экипажа — и помощник ведущего инженера С.В. Иваненко, и бортрадист И.М. Тягунов, и бортовые механики Г.Г. Ирлянов и И.С. Рязанов, — все были под стать один другому. Экипаж был профессионально — каждый в своём деле — очень сильный и к тому же дружный, что в подобных случаях тоже далеко не маловажно.