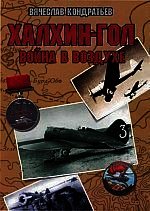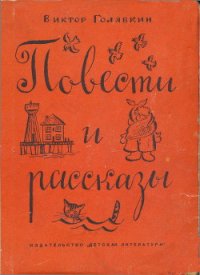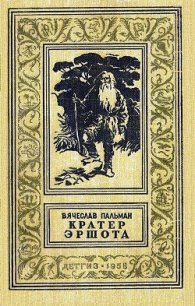На поле овсянниковском (Повести. Рассказы) - Кондратьев Вячеслав Леонидович (книги серия книги читать бесплатно полностью TXT) 📗
«Привет с фронта! Здравствуйте, Нина!
Сегодня такая радость — получил Ваше письмо! А главное, почувствовал, что оно немного другое, чем прежние, — теплее и сердечнее. К сожалению, в этот же день, вечером, произошло несчастье — убило моего связного Васю Колбина. Он как-то неосторожно высунулся из окопа, и снайпер попал ему прямо в лоб. Он был очень хороший парень, и мы здорово сдружились за это время…
Я Вам признаюсь — ночью, оставшись в землянке один, я плакал, как маленький. Представляете — я, мужчина, командир взвода, и плакал!
Утром писал письмо его родным. Если б Вы знали, как это тяжело. Но что делать? Война есть война. Я не хотел Вам писать об этом, но мы же договорились писать всегда правду, вот и написал. Даже не скрыл, что плакал. Очень трудно привыкнуть к смертям. Наверное, вообще невозможно. Но они неизбежны, пока идет война, и надо держать себя в руках…».
Я прочла и тоже пустила слезу, хотя в первый раз услышала про этого Васю Колбина. Но мне жалко стало Ведерникова. Я представила его одного в темном блиндаже, как он сидит, сгорбившись, и размазывает по своему лицу непрошеные «скупые мужские» слезы. И тут только до меня дошло по-настоящему, что и его, Ведерникова, могут тоже убить, и я заревела уже как следует.
Ко мне подошел один пожилой раненый и спросил:
— Что с тобой, сестренка? Похоронку, что ли, получила?
— Нет.
— Чего же тогда плачешь?
— Связного у него убило.
— Какого связного и у кого, сестренка? — Не понял поначалу раненый, а потом добавил: — Разве обо всех нас наплачешься? Слез не хватит, милая. А ну-ка, подними голову да улыбнись. Вот так. Умница. — Он погладил меня по голове тяжелой шершавой рукой и отошел.
А я смотрела ему вслед — сутулому, опирающемуся на палку, в сером коротком, не по росту, халате — и утирала слезы, тронутая его вниманием.
Вообще пожилые относились к нам, девчонкам, как-то по-особенному трогательно, жалея нас, как своих дочерей, а часто и звали так — дочка, доченька…
Ранбольные… Так мы называли наших подопечных. Вначале мы звали их просто больными, как принято в больницах, но они запротестовали — мы не больные, мы раненые, мы не просто какую болезнь подхватили, а кровь на фронте пролили за Родину, совсем это другое дело. Вот и получилось такое нелепое слово — ранбольной. Но так мы называли только что прибывших, пока не знали их имен и фамилий, а потом звали их, конечно, по именам, реже по фамилиям, а еще реже по именам-отчествам, потому что большинство было наших одногодков — Вась, Петь, Андрюш, Сашек и так далее.
Итак, я утерла слезы, встряхнулась и направилась по палатам делать свои обычные дела. Теперь-то они стали обычными, а в первые дни… Бог ты мой, как все было трудно, потому что не умели мы ничего. Я уж не говорю о перевязках, об уколах, внутривенных вливаниях. Простую клизму не умели поставить. И не умели, и смущались, и смущали раненых. А нести десять тарелок супа на одном подносе! Этому тоже надо было научиться. Один раз я грохнула поднос. Супа, конечно, на кухне налили еще, а за тарелки мне пришлось платить, и ранбольные собирали мне по рублику, понимая, что моей зарплате стоимость тарелок нанесет неимоверный урон. Но ревела я, когда это получилось, не из-за денег — мне было жалко супа! Да, да — супа!
Сегодня вечером предстоит какой-то концерт у нас и, разумеется, после него, как обычно, танцы. И мы все — и сестры и больные — находимся по этому поводу в приподнятом настроении, предвкушая музыку, кружение в вальсе с тем, кто нам немного нравится, или с тем, в кого мы немножко влюблены…
Сейчас трудно представить, как после двенадцатичасового дежурства (мы работали с восьми до восьми), после таскания тяжелораненых на носилках (каталок не было) на процедуры, после перевязок, после кормления, ношения уток и суден, а еще порой и мытья полов в палатах и кабинетах, как можно после всего этого думать и мечтать о танцах. Но мы мечтали, ждали этих вечеров с трепетом, с замиранием сердца, хотя прекрасно знали, что доберемся домой только около двенадцати, опять не выспимся, опять, полусонные, побежим в семь утра к трамвайным остановкам, еле-еле пристроимся на подножку и будем висеть на своих тоненьких девичьих руках несколько остановок, пока нас не втиснут в вагон… А ведь опаздывать было нельзя! Ни на минуту!
Но все равно мы ждали этих вечеров, этих танцев, потому что другой жизни, вне госпиталя, у нас просто не было. В семь утра мы убегали уже из дому, около десяти возвращались только для того, чтобы наскоро перекусить и добрести до постели. А когда были суточные дежурства, то на отдых тоже были только сутки. Кое-как поспишь, кое-что постираешь, погладишь, сбегаешь в магазин отоварить несколько талонов по карточкам, и уже близится время бежать на работу.
Да, вся жизнь проходила у нас там, в госпитальных стенах… Мы настолько привыкли к своим белым халатам и косынкам, что, снимая их, ощущали даже какое-то неудобство. Разумеется, и танцевали тоже в халатах. И наши партнеры тоже были, увы, в халатах, если они были рядовыми, и из-под этих халатов белели кальсоны с какими-то невообразимо длинными тесемками, которые всегда почему-то развязывались в самый разгар танца. Офицеры, правда, были в пижамах, тоже не отличавшихся элегантностью, как правило, стираных-перестираных, плохо отутюженных. Но все это никому не мешало наслаждаться танцами, разговорами друг с другом, обмениваться красноречивыми взглядами…
Для наших же ранбольных госпиталь был вообще почти домом. У некоторых война уже отняла настоящий дом — у прибалтийцев, у украинцев, у белорусов, — и госпиталь, особенно эти вечера с танцами были для них какой-то частицей той будущей мирной жизни, которая наступит для них рано или поздно, наступит обязательно, когда они уже не в халатах и пижамах, а в нормальной штатской одежде будут танцевать с девушками на какой-то танцплощадке у себя в городе или селе.
Они и писали нам прямо на госпиталь. Писали часто и помногу, особенно те, кому некуда было писать. Благодаря этому мы все были в курсе переписок своих подруг, и приход почты всегда был событием.
— Маша! Тебе опять письмо!
— Ой, девочки! А мне нет?
Сперва письма прочитывались в одиночку, а потом, особенно если в письме было что-нибудь смешное, они шли по кругу. Смех, возбужденные разговоры, обсуждения…
«Привет с фронта! Здравствуйте, Ниночка!
Ваше последнее письмо меня очень тронуло сочувствием к моему горю. Благодарю за него. Здесь, на передовой, так приятно знать, что где-то в Москве есть человек, с которым можно поделиться всем, который поймет и, надеюсь, никогда не осудит. Нина, я с таким страхом посылал первое письмо. Я почти был уверен, что Вы мне не ответите. А теперь думаю — как я мог сомневаться в Вас. Вы такая хорошая. Я часто вспоминаю госпиталь. Как там было хорошо, весело. Правда, очень жаль, что мне никогда не удавалось, когда было кино, найти место около Вас. Вы всегда приходили в окружении ребят. Вы все-таки, по-моему, были немного воображалой. Очень любили показать свое остроумие и свою начитанность. Но один раз я прислушался к одному Вашему разговору с кем-то, и Вы были не правы… Вы спутали американского писателя с английским, хотя и спорили с большим апломбом. Вы, конечно, много читали, но, наверно, очень бессистемно и, схватывая все на ходу, не очень-то углублялись в суть. Но это естественно для Вашего возраста, да и для девушек вообще…».
Я фыркнула, словно кошка, которую погладили против шерстки, состроила гримасу, показала язык, потом потерла лоб рукой, что выражало у меня крайнюю степень озабоченности и недоумения, и надулась… Тоже мне, умник! Это я-то не углубляюсь в суть? Да что он понимает во мне, этот Ведерников! Всегда и все были в восторге от блеска моего ума, тем самым постоянно подтверждая мое собственное высокое мнение о нем. Ну, я ему сейчас покажу!