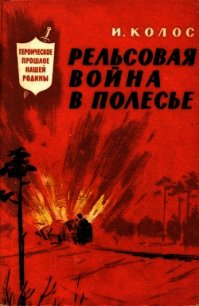Ничего кроме надежды - Слепухин Юрий Григорьевич (лучшие книги читать онлайн .TXT) 📗
– Что-о-о?! Ты в своем уме, капитан? Как это ты мне запрещать что-то можешь, а? Хотел бы я увидеть, как ты запретишь своему командиру!
– Ну так увидите! – уже не помня себя, пообещал Дежнев, пальцами подбираясь к кобуре. – Скажите еще слово и увидите!
– Мальчишка! – взревел Прошии. – Ты на кого хвост задираешь? Хочешь, чтобы я автоматчиков сейчас вызвал? Ну, совсем рехнулся – за пистоль уже хватается, гляньте вы на него. Нале-во кру-гом! Уйди с глаз, котяра бешеный!..
Черт, все испортил, все, повторял про себя капитан, сбегая по лестнице. Хорошо, если закатает под арест, а то ведь и хуже может быть... Черт, как не удержался, надо же, сам все испортил!
Одевшись, он нахлобучил фуражку и выскочил на улицу, не застегивая шинели. Было холодно, слякотно, выпавший два дня назад снег давно растаял, на душе было не то что мрачно – беспросветно. Строго говоря, конечно, в чем-то старик прав, можно было бы подождать до конца войны; можно было бы, но он чувствовал, что ему ждать нельзя. Боялся передумать, что ли? Нет, не то, не то... Паша написал «трудная дилемма», а она, в общем-то, не такой уж трудной оказалась – да какая тут вообще «дилемма», есть, что ли, другой выход? Другого выхода нет и быть не может, он это понял сразу, точно так же не было его и тогда, в июне сорок первого. Когда понимаешь, что надо, выбора нет и быть не может. Какой же выбор сейчас? Ну, допустим, сделал бы вид, что не было этого письма, что он ничего не знает, ни о чем не догадывается, – и что же? Дождаться конца войны, разыскать Таню, жениться – и жить-поживать, добра наживать? Зная, что где-то мыкается Елена с его сыном (может оказаться и дочка, но он почему-то уже уверил себя, что сын), – черт, да этого же врагу своему не пожелаешь, не то что себе...
...Можно, конечно, послать ей заверенное полковой печатью заявление в загс – вроде бы кто-то говорил, что есть сейчас и такая форма регистрации брака. Но ведь она, получивши такую бумагу без всяких объяснений, попросту ее порвет, а объяснять – нет, нечего и думать, письма у него никогда не получались, тем более когда дело такое тонкое. Что тут напишешь? Она, ясное дело, боится, чтобы он не подумал, что ребенком этим захотела его поймать; это как дважды два, иначе не скрывала бы. Как напишешь, чтобы поняла правильно? Не выйдет, и думать нечего, здесь надо приехать и поговорить. И то, можно сказать заранее, не сразу еще и согласится. Если согласится вообще. Да нет, вообще-то, должна, вообще-то, это ведь не только ее личное дело. А ребенок? О ребенке она думает? Его вдруг обожгло: а сам-то он подумал – о Тане? Не о себе, оказавшемся перед таким выбором, а о ней; ведь тут и Танина судьба решается, а не только его собственная, Елены и ребенка. Чем вся эта история обернется для Тани? «У-у, кобель», – простонал он.
Набегавшись по улицам, Дежнев вернулся на квартиру, почти уверенный, что за ним уже пришли. Федюничев сказал, однако, что нет, никто не приходил.
– А кто должен был прийти, товарищ гвардии капитан?
– Из комендатуры, патруль. На губе, похоже, придется мне посидеть... если не хуже!
Федюничев, не выразив удивления, поинтересовался, за что же на губу, а когда узнал, что капитан повздорил с полковым командиром, заметил глубокомысленно, что с начальством ссориться – все равно что против ветра малую нужду справлять.
– Раньше бы подсказал, философ, – огрызнулся Дежнев. – Водки там не осталось? Выдай мне сто грамм, и буду спать, пока не придут...
До вечера за ним так и не пришли, а утром прибежал писарек из полковой канцелярии – сказал, чтобы приходил за отпускным свидетельством и проездными документами.
На его счастье, погода была летная по всей Украине. «Дуглас» фельдсвязи, пристроиться на который помогли в редакции, за три часа долетел до Киева, там заправился и около семи вечера пошел на посадку в Москве, на Центральном аэродроме. Контроль был таким придирчивым и долгим, что Дежнев уже начал опасаться, успеет ли выехать сегодня, но ничего, успел – нашлась и попутка, так что уже в десять он был на Каланчевской площади, с достаточным запасом времени, чтобы отстоять еще небольшую очередь у воинских касс Ленинградского вокзала.
За все время пути он ни разу не пытался продумать предстоящий разговор, прекрасно понимая, что такие попытки ни к чему. Это можно делать, если хорошо знаешь будущего собеседника и можешь предвидеть его реакцию, а он Елену не знал или знал недостаточно, совершенно недостаточно для того, чтобы предвидеть – как она отнесется к его появлению и к тому, что он намерен ей сказать. В конце концов, не исключен ведь и такой вариант, что Паша ошибся с самого начала и он действительно здесь не при чем. Но тогда выходит что же – что она была тогда не только с ним? Да ну, этого быть не может, как ему только в голову могло такое прийти...
В Ленинграде была уже зима, самая настоящая, со снегом, привокзальная площадь – после московской затолпленной и галдящей Каланчевки – удивила тишиной, малолюдством, каким-то почти нерусским порядком. Он спросил, как проехать на Васильевский остров, сказали, что можно трамваем, четвертым номером; старичок оказался словоохотливый, припомнил по этому поводу частушку времен военного коммунизма: «Шел трамвай четвертый номер, на площадке кто-то помер, тянут, тянут мертвеца, ламца-дрица, лам-цаца» – и пояснил, что маршрут этот связывает два кладбища, Волково и Смоленское, отсюда и упоминание о мертвеце...
Трамвая долго не было, и Дежнев, промаявшись на остановке, подцепил попутную полуторку, сговорившись с водительницей за банку «второго фронта». Потом только подумал, что, наверное, не стоило этого делать, лучше было бы оставить лишние калории Елене – тыл (он это успел заметить) живет голодно, а ей надо сейчас усиленно питаться. Да, не сообразил, упрекнул он себя, живешь еще прежними холостяцкими представлениями, а пора перестраиваться, думать о семье...
...Медленно, держась за перила, поднимался он по широкой, богатой когда-то, а теперь донельзя обшарпанной и замызганной лестнице, пропахшей котами и вареной капустой, решетка перил была узорная, словно сплетенная из длинных водорослей или кувшинок, но деревянный поручень поверху отсутствовал, а железная планка, к которой он крепился, местами была погнута и носила следы ударов топора – в блокаду, наверное, выламывали... Он вспомнил вдруг, как – года еще не прошло! – поднимался по другой лестнице, в энском Доме комсостава; и это воспоминание заставило его остановиться на площадке между этажами, охваченного внезапным смятением – что же он делает? Продумал ли все, взвесил, как советовал Паша, понял ли до конца, что делает? Вот сейчас он поднимется еще на один марш, отсчитает еще пятнадцать ступенек, и ходу назад не будет; а потом найдется Таня (он был теперь уверен, знал совершенно точно, что найдется), и они встретятся, и она скажет: как же ты мог, я так тебе верила? – или даже не скажет ничего, а просто посмотрит – и как тогда жить дальше? А вот так и жить, сказал он себе, вдруг озлившись, так и жить – как велит судьба, а не как хотелось бы! Мало ли чего кому хочется, думал он, глядя во двор сквозь сто лет немытые цветные стекла огромного, от потолка до полу, закругленного наверху окна, слишком легко было бы жить, получайся все по нашему хотению; да и была ли бы это жизнь? Наверное, нет, не жизнь была бы – человеческая жизнь, – а какое-то птичье беззаботное существование: порхай, где хочешь, склевывай, что увидишь, и никаких тебе проблем... Действительно, какая тогда была бы разница – человек, птица, собака?