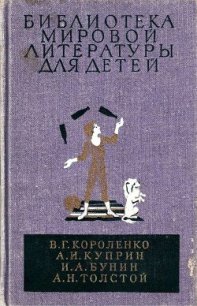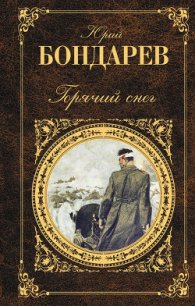Библиотека мировой литературы для детей, т. 30, кн. 1 - Бондарев Юрий Васильевич (читать книги бесплатно .TXT) 📗
— Прямо бешеные! — сказал Давлатян, увидев усмешку Кузнецова, дочитавшего листовку до конца. — Не думали, наверно, что в Сталинграде им жизни дадут. Как смотришь на эту пропаганду?
— Прав, Гога. Сочинение на вольную тему, — ответил Кузнецов, отдавая листовку. — А вообще такую ругань еще не читал. В сорок первом писали другое: «Сдавайтесь и не забудьте взять ложку и котелок!» Забрасывали такими листовками каждую ночь.
— Знаешь, как я эту пропаганду понимаю? — сказал Давлатян. — Чует собака палку. Вот и все.
Он смял листовку, бросил ее за обочину, засмеялся легким смехом, снова напомнившим Кузнецову нечто далекое, знакомое, солнечное, — весенний день в окнах школы, испещренную теплыми бликами листву лип.
— Ничего не замечаешь? — заговорил Давлатян, подстраиваясь к шагу Кузнецова. — Сначала мы шли на запад, а потом повернули на юг. Куда мы идем?
— На передовую.
— Сам знаю, что на передовую, вот уж, понимаешь, угадал! — Давлатян фыркнул, но его длинные, сливовые глаза были внимательны. — Сталинград сзади теперь. Скажи, вот ты воевал… Почему нам не объявили пункт назначения? Куда мы можем прийти? Это тайна, нет? Ты что-нибудь знаешь? Неужели не в Сталинград?
— Все равно на передовую, Гога, — ответил Кузнецов. — Только на передовую, и больше никуда.
Давлатян обиженно повел острым носом.
— Это что, афоризм, да? Я что, должен засмеяться? Сам знаю. Но где здесь может быть фронт? Мы идем куда-то на юго-запад. Хочешь посмотреть по компасу?
— Я знаю, что на юго-запад.
— Слушай, если мы идем не в Сталинград, — это ужасно. Там колошматят немцев, а нас куда-то к бесу на кулички?
Лейтенант Давлатян очень хотел серьезного разговора с Кузнецовым, но этот разговор не мог ничего прояснить. Оба ничего не знали о точном маршруте дивизии, заметно измененном на марше, и оба уже догадывались, что конечный пункт движения не Сталинград: он оставался теперь за спиной, где изредка раскатывалась отдаленная канонада.
— Подтяни-ись!.. — донеслась команда спереди, нехотя передаваемая по колонне голосами. — Шире ша-аг!..
— Ничего пока не ясно, — ответил Кузнецов, взглянув на беспредельно растянутую по степи колонну. — Куда-то идем. И все время подгоняют. Может быть, Гога, вдоль кольца идем. По вчерашней сводке, там опять бои.
— А, тогда бы прекрасно!.. Подтяни-ись, ребята! — подал в свою очередь команду Давлатян с неким училищным строевым переливом, но поперхнулся, сказал весело: — Вот, знаешь, эскимо помешало, в горле застряло! А ты тоже пожуй. Утоляет жажду, а то весь мокрый как мышь! — И, будто сахар, с наслаждением пососал комок снега.
— Ты что, любил эскимо? Брось, Гога, попадешь в медсанбат. По-моему, охрип уже, — невольно улыбнулся Кузнецов.
— В медсанбат? Никогда! — воскликнул Давлатян. — Какой там медсанбат! К черту, к черту!
И он, наверное, как в школьные экзамены, суеверно сплюнул трижды через плечо, посерьезнев, швырнул комок снега в сугроб.
— Я знаю, что такое медсанбат. Ужас в квадрате. Провалялся все лето, хоть вешайся! Лежишь как дурак и отовсюду слышишь: «Сестра, судно, сестра, утку!» Да, идиотская ерунда какая-то, знаешь… Только на фронт под Воронеж прибыл и на второй день глупость какую-то подхватил. Глупейшая болезнь. Повоевал, называется! Со стыда чуть с ума не сошел!
Давлатян опять презрительно фыркнул, но тут же быстро посмотрел на Кузнецова, словно предупреждая, что никому смеяться над собой не позволит, потому что в той болезни был не виноват.
— Какая же болезнь, Гога?
— Глупейшая, я говорю.
— Дурная болезнь? А, лейтенант? — послышался насмешливый голос Нечаева. — Как угораздило, по неопытности?
Подняв воротник, руки в карманах, он отупело шагал за орудием и, заслышав разговор, несколько взбодрился, сбоку глянул на Давлатяна; посиневшие губы выдавливали скованную холодом полуусмешку.
— Не надо, лейтенант, стесняться. Неужто схлопотали? Бывает…
— В-вы, донжуан! — вскрикнул Давлатян, и остренький нос его с возмущением нацелился в сторону Нечаева. — Что за глупую ерунду говорите, слушать невозможно! У меня была дизентерия… инфекционная!
— Хрен редьки не слаще, — не стал спорить Нечаев и похлопал рукавицей о рукавицу. — А что вы так уж, товарищ лейтенант?
— Пре-екратите глупости! Сейчас же! — сорвавшимся на фальцет голосом приказал Давлатян и заморгал, как филин днем. — Вас всегда тянет говорить непонятно что!
У Нечаева смешливо дрогнули заиндевелые усики, под ними — синий блеск ровных, молодых зубов.
— Я говорю, товарищ лейтенант, все под богом ходим…
— Это вы, а не я… вы под богом ходите, а не я! — с совершенно нелепым негодованием выкрикнул Давлатян. — Вас послушать — просто уши вянут… будто всю жизнь глупостями этими и занимаетесь, будто султан какой! От вашей пошлости женщины плачут, наверно!
— Они от другого плачут, лейтенант, в разные моменты. — Под усиками Нечаева скользнула улыбка. — Если в загс не затащила — слезы и истерика. Женщинки, они как — одной ручкой к себе прижимают: тю-тю-тю, гуль-гуль-гуль, другой отталкивают: прочь, ненавижу, гадость, оставьте меня в покое, как вам не стыдно… И всякое подобное. Психология ловушки и ехидного коварства. У вас-то с практикой негусто было, лейтенант, учитесь, пока жив сержант Нечаев. Передаю опыт наблюдений.
— Какое право вы имеете… так говорить о женщинах? — окончательно возмутился Давлатян и стал похожим на взъерошенного воробья. — Что вы такое подразумеваете под практикой? С вашими мыслями на базар ходить!..
Лейтенант Давлатян начал даже заикаться в негодовании, щеки его зацвели темно-алыми пятнами. Он не разучился краснеть при грубой ругани солдат или цинично обнаженном разговоре о женщинах, и это тоже было то далекое, школьное, что осталось в нем и чего почти не было в Кузнецове: привык ко многому в летнее крещение под Рославлем.
— Идите к орудию, Нечаев, — вмешался Кузнецов. — Не заметили, что влезли в чужой разговор?
— Е-есть, товарищ лейтенант, — протянул Нечаев и, сделав небрежный жест, напоминающий козыряние, отошел к орудию.
— Все-таки ты лейтенант, Гога, и привыкай, — сказал Кузнецов, сдерживаясь, чтобы не засмеяться, увидев, как Давлатян с воинственной неприступностью вздернул свой лиловый на холоде нос.
— А я не хочу привыкать! Это к чему? С какими-то намеками полез! Мы что, животные какие?
— Подтянись! Ближе к орудиям! Приготовиться одерживать!..
От головы колонны навстречу батарее выехал Дроздовский. В седле сидел прямо, как влитой, непроницаемое лицо под слегка сдвинутой со лба шапкой строго; перешел с рыси на шаг, остановил крепконогую, длинношерстную, с влажной мордой монгольскую лошадь обочь колонны, придирчивым взглядом осматривая растянутые взводы, цепочкой и вразброд шагающих солдат. У всех затягивали подбородки потолстевшие от инея подшлемники, воротники подняты, вещмешки неравномерно покачивались на сгорбленных спинах. Ни одна команда, кроме команды «привал», уже не могла подтянуть, подчинить этих людей, отупевших в усталости. И Дроздовского раздражала полусонная нестройность батареи, равнодушие, безразличие ко всему людей: но особенно раздражало то, что на передках были сложены солдатские вещмешки и чей-то карабин палкой торчал из груды вещмешков на первом орудии.
— Подтяни-нсь! — Дроздовский упруго привстал в седле. — Держать нормальную дистанцию! Чьи вещмешки на передке? Чей карабин? Взять с передка!..
Но никто не двинулся к передку, никто не побежал, только шагавшие ближе к нему чуть ускорили шаги, вернее, сделали вид, что понята команда. Дроздовский, все выше привставая на стременах, пропустил мимо себя батарею, затем решительно щелкнул плеткой по голенищу валенка:
— Командиры огневых взводов, ко мне!
Кузнецов и Давлатян подошли вместе. Слегка перегнувшись с седла, ожигая обоих прозрачными, покрасневшими на ветру глазами, Дроздовский заговорил с резкостью:
— То, что нет привала, не дает права распускать на марше батарею! Даже карабины на передках! Что, может, люди уже вам не подчиняются?