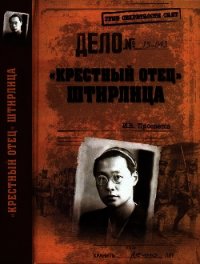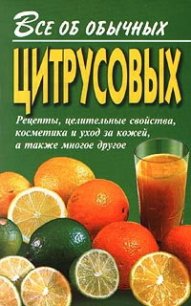Дорогой отцов (Роман) - Лобачев Михаил Викторович (список книг .TXT) 📗
— Не считал. В убежище пойдешь?
— Пойду. Посижу малость.
В лунном небе бледнели лучи прожекторов и, сливаясь с голубизной ночи, скоро гасли. «Разведчики или бомбардировщики? А впрочем, не все ли равно?» В шуме и грохоте завода, когда голова и руки заняты делом, на душе относительно спокойно, а как только выйдет слесарь из ворот завода, так рядом с ним, точно тень двойника, идет, преследуя, все тот же вопрос. «Где же предел отступлению, где? Не время ли развернуться? Не пора ли громыхнуть народной силушкой?» Вернулся на кровать. Лежал с открытыми глазами, не пытаясь заснуть, зная, что все равно, сколько бы он ни старался, ему не унять мыслей.
Марфа Петровна пришла из бомбоубежища поздним утром. В условленном месте она ключа не нашла. «Неужели спит?» Она отворила дверь и с удивлением остановилась у порога, увидев Павла Васильевича с газетой в руках. Он положил на стол газету и снял очки.
— Павел Васильевич, — приветливо воскликнула Марфа Петровна. — Вот неожиданность. Спасибо, что не забываешь нас. А где Иван Егорыч?
Павел Васильевич удивленно развел руками.
— Никого нет, Петровна, — сказал он. — Вхожу, гляжу — никого. Дверь не заперта.
— Значит, ушел на работу. А я всю подушку изваландала в бомбоубежище, — пожаловалась Марфа Петровна. — Ни одну ночь не дает спокойно поспать, нечистый дух.
— Теперь так, Петровна. Теперь одно ухо спит, другое слушает. Один глаз на часах, другой на отдыхе. — Зорко оглянул комнату. — Как поживаете, Петровна?
— Как живем? Иван Егорыч по всему дню на работе пропадает, а Лена девушек санитарному делу обучает. Ты не торопишься, Павел Васильевич? Я чайку согрею.
— Посижу. Покалякаю. А дождусь ли я Ивана Егорыча?
— Вряд ли. Он поздно приходит, а когда и на ночь там остается. Как поживает твоя Лексевна?
Павел Васильевич тяжко вздохнул.
— Лексевна у меня захандрила, — грустно сказал он. — Сама знаешь, как у нее сложилась жизнь. Я полвека воевал. Пришел с японской, началась германская. Кончилась германская — поднялась гражданская. А Лексевна с нуждой воевала. Уж давно живем мы лучше лучшего, а ей все не верится, она все оглядывается, словно у нее кто стоит за спиной и шепчет ей: «Сломаю я твою жизнь». А теперь часами торчит на вокзале, все поджидает сына, хотя он и не обещался приехать. И не может приехать, потому что воюет.
Марфа Петровна накрыла стол чистой скатертью. Подала вазочку варенья, свежие сухари, кусочек сыру. Павел Васильевич пил чай с удовольствием, пил и прихваливал, удивляясь, как это Петровна сумела запастись вареньем в такое трудное время.
— Для гостей сберегла одну баночку. Угощайтесь.
— Спасибо, Петровна, за угощение, — свалил набок чайный стакан и, отодвинувшись от стола, закурил. — Случится тебе быть у Анны Павловны, загляни к нам, Петровна. А Ивану Егорычу передай, что я к нему еще наеду. Спасибо, Петровна, за чай. И рад бы еще часок посидеть, да не могу. Я, Петровна, по охоте работу себе нашел в уличном комитете. Не могу сидеть сложа руки. Сейчас пойду домохозяек тормошить. Копаем окопы, блиндажи, землянки. Одним словом, готовимся. — Помолчал, подумал. — Петровна, давно я хотел тебя спросить насчет своего Сергея. Ты ничего за ним не примечала?
Марфа Петровна приятно улыбнулась.
— Как не заметить? — добро взглянула на Павла Васильевича. — Раза два заходил к нам. Обедал, чай пил.
— Вон как! — удивился Павел Васильевич. — А нам с матерью ни словечка. Ну и как он? — Ему очень хотелось спросить, угоден ли Петровне Сергей, но, вспомнив, что это дело щекотливое, перевел разговор на женскую линию: — Дочка у вас красавица. Ей сколько лет, Петровна?
— Двадцатый доходит. Боюсь, Павел Васильевич, война может попортить ей дорогу.
— Не толкуй, Петровна. Я все уговаривал Сережку жениться. Невест, говорит, подходящих нет. А ты, говорю, приглядывайся получше. Что, говорю, разве мало на заводе инженерш или там других девушек? Молчит, ухмыляется. А с прошлого года стал я за ним примечать, будто завел он себе знакомство. Наблюдает за собой, чистится, мылится, духами брызжется. Я Лексевне своей шепнул. И она заметила. Не промахнуться бы ему, говорит. Навяжется какая-нибудь, и вся жизнь покатится колесом. Лексевна правильно рассуждает. Жениться не хитро, а вот что потом-то станет?
— Сергей Павлович навещает нас, — с удовольствием проговорила Марфа Петровна.
— Ну и хорошо. Если вы с Иваном Егорычем не против Сергея, давайте с двух сторон, Петровна.
В то время, когда Павел Васильевич вел душевную беседу с Марфой Петровной, Иван Егорыч сидел на партийном собрании.
С собрания коммунисты отправились на цеховой митинг. Завод получил от правительства телеграмму. Правительство просило рабочих (именно просило!) увеличить выпуск танков. В этом цехе трибуной служил танк. Начальник цеха, стоя на танке, говорил не жалея голоса, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону:
— Наши танки, товарищи, идут на фронт горячими, неостывшими. Такова теперь обстановка на фронте.
На танк поднялся Иван Егорыч. В каждом его движении чувствовался волевой характер. Он сказал, что теперь не время для длинных речей, и, повернувшись к начальнику цеха, перешел к сугубо практической стороне дела:
— Вы сказали, что производительность труда скакнула кверху. Это хорошо. Так и положено быть. Но много есть «но». И главная загвоздка — танковые корпуса. Мы гоним, мы жарим, и вдруг стоп, машина — нет корпусов. И стоим мы, загораем час-другой. Нельзя так, не годится.
А правительству надо ответить… — Иван Егорыч посмотрел в конец пролета. Там шли незнакомые люди и вместе с ними директор завода. Один — высокий, черноусый полковник с орденами, другой — штатский, в очках и шляпе. Иван Егорыч закончил свою речь горячими словами: «Танки фронту дадим. Свою родную армию не подведем. Так ли я говорю, товарищи?»
— Дадим танки. Дадим!
На танк-трибуну поднялся полковник. Он заговорил густым, сочным басом. От имени командующего фронтом он поблагодарил рабочих за боевые машины.
— Ваши танки любят на фронте, — сказал он. — Всем вам спасибо! Спасибо Ивану Егорычу Лебедеву за его патриотический почин, за его стахановский труд на ремонте танков.
Рабочие разошлись по своим рабочим местам, скоро стук и скрежет заполнили цех. Синий дымок, колыхаясь, плыл над конвейером и, поднимаясь кверху, висел под высокой кровлей. Здесь — всюду грохот, стук, звон; и стоит этот грохот и день, и ночь. Рабочие сутками не выходят из цеха, не видят солнца, а когда их покидают силы, они соснут часок-другой и опять — за танки. У Ивана Егорыча ворот рубашки расстегнут, рукава засучены выше локтей. «Пить, пить». И пьет несчетно раз, и напиться не может. «Теплая. С ледком бы теперь». Иван Егорыч позвал своего друга, слесаря Митрича.
— Ведущие вышли, — сказал он ему. — Слышь-ка, колеса ведущие подавай!
Рядом с Иваном Егорычем трудится над сборкой танка другая бригада.
— Ваня, Ванюша! Черт, оглох, что ли? Крепи рулевые тяжи, — командует старший.
— Есть крепить.
— Давай, Ваня, давай. Видишь, маляр идет?
Молодой художник неторопливо шел по пролету. В руках у него кисть и банка с краской. Он деловито остановился возле танка, поставил на борт машины краску. Худощавый слесарь недоуменно посмотрел на художника, выпрыгнул из танка: «Зачем он это ко мне?» Художник написал: «Танк сдать». Грудь слесаря подалась вперед, прикоснувшись к плечу художника. Тот, мягко улыбнувшись, дописал: «20 июня».
— К черту! — возмутился слесарь. — Замажь к чертовой матери.
— Велено, дорогой товарищ. Сам начальник приказал. Не теряй дорогого времени, поторапливайся, а не то не заметишь, как двадцатое нагрянет.
Художник перешел к другому танку. А недовольный слесарь, не успокаиваясь, продолжал ворчать:
— Что я… хуже всех? Не справляюсь с планом? — Потом, увидев, что художник готовится писать на соседнем танке, слесарь подозвал своего товарища по работе и сказал ему: «Ваня, иди узнай, что он там малюет?»