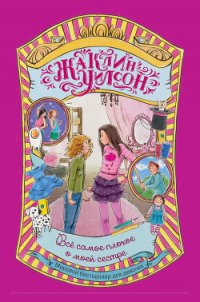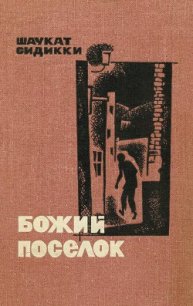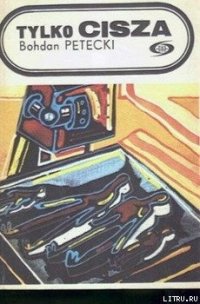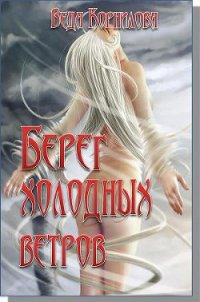Чистый след горностая - Кузьмин Лев Иванович (книги регистрация онлайн бесплатно TXT) 📗
— Ну, а вы?
— Что мы… Он заходит во второй раз, идет низко-низко, машины все остановились, а мы — кто куда. Кто в кювет, кто в поле, в рожь. Только Света, наша вожатая, сдернула красный галстук и бежит ему навстречу. Бежит, машет галстуком: «Не смей! Не смей! Неужели не видишь? Это же дети! Это же пионеры!», а он — весь черный, кожаный, в очках — прямо в Свету… Прямо пулями…
Тоня отвернулась, замолкла.
А меня и самого словно кто пришиб. Я и сам словно оглох.
Я дотронулся до Тониной руки и совсем тихо сказал:
— Не надо. Дальше рассказывать не надо.
Так я с той поры о войне Тоню больше и не расспрашивал. А вот думать о нашей дружбе стал еще больше.
Глава 10
ГОЛУБОЙ КРАЙ ЗЕМЛИ
В тот день, когда увезли маму, в школу я не ходил, а потом стал опаздывать на уроки почти каждое утро. Пока сам проснусь, пока ребят подниму да пока печь истоплю, глядишь — время-то уже совсем вышло. И никакая сила воли тут помочь не могла, выручить мог только будильник. Но будильника у нас дома не было. Время мы узнавали по жестяным ходикам с кошачьим портретом-циферблатом. Глаза у кошки шевелились: тик-так, тик-так; это тиктаканье я слышал почти всю ночь. Чтобы не проспать, я дремал вполглаза, но к утру все равно засыпал как убитый и опять опаздывал.
Женька переживал за меня, все набивался:
— Давай я твои ходики переделаю на будильник. Приспособлю к стрелкам грушу от спринцовки, и жестяная кошка будет мяукать.
— Меня мяуканьем не разбудишь.
— Ну тогда она станет крякать. Кря! Кря!
— А петухом она петь не может? — ехидно спросил я.
— Петухом — нет. Не выйдет.
Женькин замысел я отклонил. Я вспомнил про велосипед и побоялся остаться совсем без ходиков. Выручил меня Валерьян Петрович. Он раным-рано стал приходить к нашему дому и барабанить в стекла. Барабанил он до той поры, пока я не просыпался, пока не высовывал всклокоченную голову через форточку на мороз и не говорил:
— Здрасьте!
— Здравствуй. Ты проснулся?
— Проснулся.
— А я вот мимо шел да и стукнул. Смотри, не опаздывай.
— Не опоздаю. Я уже валенки надел.
— Ну, то-то!
Он уходил по направлению к школе, я смотрел ему вслед и думал: «Чего это ему там делать в такую рань?» Я подозревал, что ходит он через весь поселок чуть свет лишь из-за меня.
В конце концов подыматься спозаранку я привык сам и попросил Валерьяна Петровича в окно больше не стучать.
Но все равно на мою голову обрушилось теперь столько всего, что и в школе я думал не об уроках, а совсем о другом.
Я сижу, смотрю на учителя, слышу, как он поскребывает по доске мелом, а сам думаю о маленьком Шурке. Сестра сейчас тоже на уроках, и одинокий Шурка сидит, наверное, на подоконнике, смотрит на безлюдную улицу. В одиночку Шурка играть не умеет, в одиночку ему тоскливо и страшно, и хорошо, если к нему прибегут соседские малыши. Да только теперь холодно, и малыши тоже сидят по своим домам.
Думаю я и про нашу козу Лизку. Сено для Лизки отец в прежние времена получал в колхозе, а теперь сена нет. Мы подкармливаем Лизку сухими вениками, но веников мало, и Лизка сама себе добывает пропитание. Она с утра до вечера шляется по станции, и везде Лизке могут поддать, вытянуть хворостиной, могут и взять за рога, запереть в чужой сарай. До сумерек Лизку надо непременно пригнать домой, а то и в самом деле пропадет, как пропала пестрая коза Федоровны.
Козу Федоровны даже не увели, а закололи прямо в хлеву. Кража произошла ночью, а на рассвете на крик хозяйки сбежался народ. Растрепанная, простоволосая Федоровна металась среди людей, показывала в глубину раскрытого хлева. Там на остывшей соломенной подстилке заледенело пятно крови.
— Кормилица ты моя… Господи! — беспомощно вскрикивала хозяйка, а старик Бабашкин стал осматривать распахнутые воротца.
— Они изнутри запираются?
— Изнутри, родимый, изнутри. Я козу-то как загоню, так и сама зайду следом и воротца с той стороны заложу щеколдой. А в дом из хлева у меня другой ход есть, через сени. Злодей, чтоб ему сгореть в геенне огненной, видно, через сени прошел.
Печник растворил ту дверь, о которой говорила хозяйка, потоптался в сенях и, не заходя в избу, появился на крыльце, на улице.
— Ну, Анна, вор у тебя, похоже, не первый раз этим путем проходил. Свой человек.
Анна Федоровна широко распахнула глаза:
— Ты что? С чего взял?
— С того взял, что чужому человеку в хлев и через сени не попасть. Там у тебя такие засовы, такие задвижки, что, не знавши да в потемках, их не открыть.
— Матерь-заступница, да кто же это?! У меня после Миньки-пастуха никто и не живал. Никто ни разу и не захаживал.
— Вот Минька, должно быть, и заглянул по старой памяти. Положение у него теперь волчье, а кормиться надо.
Все, кто стоял у крыльца — женщины, старухи, ребятишки, — испуганно зашептались. Если у Федоровны и в самом деле побывал Минька, то теперь он может заглянуть в любой дом. Нет в поселке такого дома, в котором бывший пастух не знал бы ходов-выходов.
Тут печник прошел сквозь толпу, сделал круг по всему двору, на ходу пригнулся, так и казалось — вот-вот понюхает снег.
— Здесь они, следы, — сказал он и ткнул в снег рукавицей. — На лыжах прибегал, дьявол! Где-то лыжи успел раздобыть. Но теперь ищи ветра в поле, с лыжами его не поймать.
Там, где стоял печник, и там, где не побывала толпа, по снежной целине протянулась лыжня. Протянулась она недалеко. Уже за углом избы ее заровняла ночная вьюга. Вор, наверное, на это и рассчитывал; наверное, сам выбирал такое ненастное времечко.
Я подошел к тому месту, где лыжня уцелела, тоже пригнулся, глянул — и у меня тревожно подпрыгнуло сердце. След был странно знаком. След был от охотничьих лыж — гладких, широких, а по-вдоль правой лыжни выпуклая тонкая бороздка.
«Где я видел такую бороздку? Где я видел такую бороздку?» — забухало у меня в голове, и я боком, боком пошел от лыжни, от толпы, от Бабашкина и сорвался с места, кинулся к своему дому.
Подбежал, и точно! — у крыльца в сугробе стоит одна пара лыж, а второй пары нету!
Когда мы задумали поход на горностаев, отец смастерил две пары отличных лыж. Одну для меня, другую — пошире, подлиннее — для себя. Недавно Шурка с Наташкой лыжи вытащили и сразу отцовскую пару попортили. Наехали по первому снегу на острый камень, и на правой лыже осталась глубокая борозда. И теперь вот этой пары у крыльца не было. Вчера она стояла тут, а теперь ее нету! Я так и сел в сугроб у крыльца — я не знал, что делать.
Сгоряча я хотел бежать обратно к людям, сказать: «Нас тоже обокрали!» — да мне словно бес какой шепнул на ухо: «Постой! Ты скажешь, а потом что? Потом вся станция, все ребята будут посмеиваться: у Леньки Никитина отец на фронте, отец — герой, а сам Ленька — растяпа! Чуть не собственными руками бандиту отцовы лыжи подарил».
Подумал я такое и никому ничего не сказал.
Утром не сказал, днем не сказал, промолчал и вечером, когда из района прискакал на лошади хромой милиционер в синей шинели. Он долго и дотошно всех выспрашивал, долго ходил, припадая на больную ногу, вокруг дома Федоровны, но уехал обратно ни с чем.
По примеру напуганных жителей поселка я навесил на Лизкин сарай здоровенный замок, но, навешивая, подумал: «А ведь нашу козу Минька, может быть, и не тронет. Не должен тронуть. В отплату за лыжи».
Я запутывался в этом деле все больше и больше. И выходило теперь, что сильный-то и гордый человек я не во всем. Есть слабинка и у меня. Но тут я утешался тем, что слабинка пока одна-единственная, да и та, если разобраться, получилась не по моей вине.
Вот какие думы одолевали меня в школе. И забот стало много. На последнем уроке я всегда сидел с шапкой в руках, а пальто заранее прятал под партой. Как только звякнет звонок, я должен впереди всех вылететь из класса, добежать до магазина и занять очередь за хлебом. Хлеб прозевать нельзя. Уже на другой день самостоятельной жизни я сделал еще одно грустное открытие.