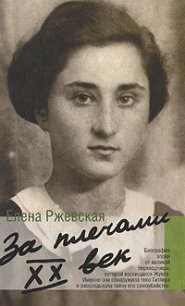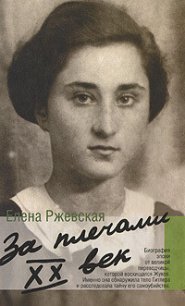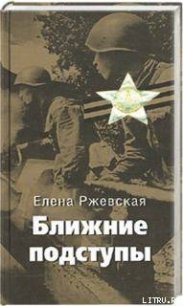Знаки препинания - Ржевская Елена Моисеевна (книги без регистрации бесплатно полностью сокращений .txt) 📗
Мама всплакнула и, посидев, разбитой походкой пошла к новорожденному, при виде которого утешения не было, хоть чепец прикрывал голову.
Словом, игру в индейцев перешибло. И как-то ночью, когда мама кормила младенца, вдруг хватились меня — только что спала здесь же в комнате и исчезла.
Нашли меня не сразу — в саду, гулявшую по дорожкам, как уверяли, с закрытыми глазами, во сне. Я тоже вогнала всех в переполох. Моя двоюродная бабушка, тетя Эсфирь — она жила в то лето с нами на даче, — не исключала «наличие элементов отклонения от нормы», да и выскользнула я за дверь, как уверяла рассеянная мама, бесшумно, неуловимо, а это доступно обычно им — лунатикам.
Взрослые просто не учли, что дети растут во сне не только телесно, в сантиметрах, но и взрослеют таинственными толчками, вдруг поднимающими на ноги. И лунатика из меня не получилось.
Весь этот хоть не бог весть какой сумбур неуловимым образом как-то уравновешивался присутствием еще одной двоюродной бабушки, по имени тетя Маня.
Она проводила дни в огороде, сидя на низкой скамеечке, перемещаясь с ней вдоль грядок, в белой панамке, свисавшей на некрасивое лицо. Бывшая социал-демократка, она бежала из Витебска в дни разгрома первой русской революции, увозя по партийному заданию подпольную типографию — известно куда — в Швейцарию. Там жила ее старшая сестра Эсфирь, выехавшая много раньше совсем по иным — по личным причинам, чтобы жить в незаконном браке с любимым, но, увы, женатым человеком, спасаясь в недосягаемой заграничной дали ото всех формальных, юридических и иных преследований и препятствий. Там она и училась, первой из женщин Витебска получив высшее образование.
Тетя Маня там тоже не теряла зря время. Окончила институт в Швейцарии, что было недоступно женщинам в России. Педагог-педолог. И работала теперь в детском саду — воспитательницей. Она меня, еще тогда пятилетнюю, взяла 1 Мая к ним в детский сад. Вместе с ее ребятишками меня посадили в кузов грузовика; грузовик разъезжал по праздничной Москве, запруженной демонстрантами и неорганизованным веселым людом, гремящей духовыми оркестрами, раскачиваемой гармонью. На платформе везли макет: великан рабочий занес чудовищной величины молот над гидрой — капитализмом. Чемберлен в цилиндре или какой другой наш враг из фанеры мелькнул, прибитый к заднему борту опередившего нас грузовика. А мы поощренно горланили:
Теперь тетя Маня, как и тетя Эсфирь, проводила отпуск с нами на даче. От социал-демократки в ее облике остались подрубленные волосы, черными клиньями выбившиеся из-под панамки, какая-то отрешенность в размашистой не по-женски походке и скрытая в детском саду белым халатом небрежность в одежде.
Впрочем, здесь она озиралась на преданно любимую ею Эсфирь, что ни день менявшую свои ситцевые накрахмаленные халаты, и в ее присутствии поминутно без нужды одергивала на себе блузку.
Но вообще-то свой отпуск тетя Маня проводила в огороде. Обученная в Швейцарии на педагога, а значит, и с навыками выращивать цветы, и овощи, и плодовые деревья, она всей душой была на этих грядках. И ко всему постороннему, к переживаниям, бурлившим в доме, была глуха и неприметлива.
Ее панама была частью растительного мира, и видеть ее издали зарытой в зелени, постоять возле тети Мани, наблюдать, как ее добросовестностью, прилежанием свершается кропотливо чудо рождения редиски, моркови, было успокоительно.
Тетя Эсфирь читала дневники Софьи Андреевны Толстой и, восхищаясь великим ее трудолюбием, иной раз не сдерживалась, чтобы слегка не попенять Льву Николаевичу. Б. Н. недоуменно и настороженно взглядывал на нее. В отрочестве, отданный в мальчики фотографу, кое-как выучившись читать, он стал надолго толстовцем, а уж потом — большевиком и до сих пор ел только вегетарианскую пищу. Но он охотно шел на прогулку с тетей Эсфирью. Такому замкнутому, нелюдимому, ее общество почему-то было приятно. Ведь это было до того случая на трамвайной остановке, когда внезапным, да и в странной форме обрушенным «признанием», не достигшим его души, оставшимся неразгаданным, она надолго ввергла его в негодование, отчуждение.
Но это еще было впереди.
А в то как раз лето тетя Эсфирь, хоть она и была намного старше его, всей своей неизжитой женственностью влюбилась в Б. Н.
Здесь, в Лосиноостровском, она деликатно осуществляла усвоенные наставления западных учителей и лежала по сколько-то минут в своей комнате нагая — «воздушные ванны». Она настаивала на их важном значении для организма человека, для укрепления воли, душевного равновесия, жизнеспособности — эти установки были приобретены ею то ли в Швейцарии, то ли в Америке, где она окончила второй медицинский факультет с дипломом врача-кожника.
В послеобеденное время, когда с подобными процедурами покончено, она, неторопливая, вдумчивая, не по летам свежая маленькая женщина с накинутой на плечи пуховой шалькой, и он, большой, наголо бритый, в вышитой косоворотке, отправлялись погулять. Проходя мимо огорода, тетя Эсфирь неизменно останавливалась поправить сбившуюся набок панамку тети Мани, чтобы цепкие лучи заходящего солнца не припекали ее черную голову. А Б. Н. одобрительно поглядывал на ботву моркови, редиса, свеклы. Он уважал труд, и физический предпочтительно.
Неравнодушие строгой, умной Эсфири к Б. Н. не осталось не замеченным мамой и льстило, потому что Б. Н. безраздельно был — ее.
Вторая голова младенца уменьшалась, и мама приходила в себя, расцветала. Красивая, стояла она на ступеньках веранды, глядя им вслед. Вероятно, красота — это тоже труд природы.
Мой старший брат был на отшибе, в водовороте шахматного турнира, затеянного здесь, в дачной округе.
Но заканчивались отпуска. Уже недолго оставалось и до возвращения папы из Кисловодска. Лето шло к концу. Настал день, когда постели были свернуты в узлы. В корыте — связанные между собой кастрюли, сковороды, примусы. Мы с братом в нетерпении ложились на землю, прижавшись ухом к земле, чтобы в гуле земли уловить бугристый звук — перекат колес подвигавшейся за нашим скарбом подводы.
Если кто учится поблизости, то он из дома всего лишь «отправляется» в школу. Если же кому другому до нее неблизко и он на трамвайной остановке подтанцовывает на подмерзающих ногах и в толчее лезет в вагон, норовит порой прокатиться без билета, хоть и знает половину кондукторов своего маршрута в лицо, — такому, считайте, повезло. Он катит вместе с вагоном, затертый служилым московским людом, кое-что ухватывая на слух и на глаз про то да се, а если подфартит плюхнуться на освободившееся у окошка место — в надышанный до него глазок в белой намерзшей шубе стекла подцепит то, что мелькнет на улице в утреннем тумане. Он уходит из дому в школу, а душа его отправляется в путь. И среди толчеи, волнений посадки, всяческих неудобств перемещения, брани, тычков и великодушия, в мелькании лиц, обрывков фраз, в смене уличных сцен — душа начинает трудиться. А сам он становится — горожанином.
Гостиница «Люкс»
После первого раза, когда мы с мамой отправились в путь с тем деревянным чемоданчиком, уже никто меня больше в школу не провожал. Со второго дня я ездила одна.
Теперь же дома появился маленький — как считалось, «поздний» ребенок, так что стало вообще не до нас со старшим братом, и я располагала собой как хотела.
После школы мы нередко шли с Зузу к ней. Леонтьевским переулком на Тверскую и, перебежав по мостовой, оказывались у дверей гостиницы «Люкс», теперь она называется «Центральная». Здесь жили работники Коминтерна, люди разных стран и национальностей.
Гостиница внутри была обшарпана. Если когда ремонтировалась, то разве что до Первой мировой войны. Запустение и неудобства никого из жильцов не трогали. Здесь жили с молодой убежденностью: первая социалистическая революция безвозвратно перевернула мир, материальные блага и интересы навсегда потускнели и потеряли привлекательность.