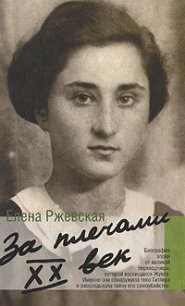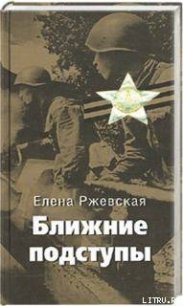Домашний очаг. Как это было - Ржевская Елена Моисеевна (читать полную версию книги TXT) 📗
Я пишу всем, потому что не знаю, кто сейчас дома. С самого начала напишу о себе. Живем мы в хорошем месте. Пока работаем мало, но скоро будем по 6 часов…» «Я очень волнуюсь, почему от вас ничего нет. К нам приехали из Москвы новые руководители, они говорят, что всех женщин, которые не работают, эвакуировали. А всех мужчин, записавшихся в народное ополчение, сейчас обучают. Поэтому и не знаю, дома ли кто — папа, мама, Борис. Я немножко скучаю, потом}' что ни с кем здесь не был знаком и потому у меня здесь нет товарищей. Скучаю по Москве. Как-то все-таки немножко тяжело. Сюда газеты доходят редко, иногда мне удается в 6 часов утра слушать радио. А если нет, то ничего и не знаешь. Напишите, как у вас там?
Ну, пока, всего хорошего».
В эти тревожные дни оторванный от семьи, он в глуши, куда не доходят ни наши письма, ни сводки Совинформбюро. («Папа, пришли сводки», — напрасно взывает.) Он без денег («денег, которые я взял в карман, вследствие обстоятельств у меня нет. Здесь поговаривают о том, что нас еще куда-нибудь отправят»).
«Теперь я ежедневно слушаю в шесть утра радио и потому все знаю. Спешно пишите, все ли живы и здоровы, а то я буду волноваться», — пишет он следом в открытке. Значит, теперь он знает, как быстро продвигаются немцы, и не может не чувствовать себя покинутым, и не так уж он не прав, но крепится. «Мужайтесь! — заканчивает он одну из последних открыток. — Победа будет за нами».
Как трогает сейчас, как печально от его нарастающих тревожных вопросов, от деликатных оборотов речи, словно он сознает, как ничтожна его судьба, его тревога покинутости в свете катаклизмов войны.
Он просит «если можно, немного сухарей», «немного денег». «Где сейчас мама? Если она в Москве, куда она уезжает? Если случится, что меня можно будет взять, обязательно возьмите». Он шлет и шлет свои безответные вопросы («Я не получил от вас ни одного письма по почте»).
Теперь он подписывается «ваш Юра», так напоминая о себе всей разношерстной, непутевой семье, где каждый куда-то устремлен в эти дни: кто на трудовой фронт, кто в армию, кто в эвакуацию, кто в добровольческую дивизию на защиту Москвы.
Последний раз, когда приезжала с фронта домой, я застала его с обмороженным носом, с забинтованной от кисти до плеча рукой — сильный ожог в цеху. Он был на больничном.
В накинутом пальто, не согреваясь в холодной квартире, он сидел неотрывно за учебниками, готовясь сдавать в вечерней школе за десятилетку.
С полгода, как они с матерью вернулись в Москву из эвакуации. Отец домой не вернулся — ушел из семьи. Мама, спеша на работу, просила меня сводить брата на перевязку. А у меня не хватило на то времени, всего два дня пробыла в Москве. И ведь мог сходить сам — поликлиника в соседнем доме. Не маленький, уже 15 лет, давно рабочий.
Я вернулась в армию. Издалека стоило только подумать о нем, с его красным носом и покалеченной рукой, принималось ноюще саднить в душе.
Теперь ему было уже 17. Студент. Он еще ни разу не ел досыта. Но был в ошалении от жизни, готовый хватать ее всю разом. Однако обмороженный нос все еще красный.
Мы сидели за столом, ели что-то, приготовленное мамой. Он хотел все знать: обо мне и о наградах, о поверженной Германии и демаркационной линии. Готов был спрашивать, слушать. Но затормошился, боясь опоздать к началу футбольного матча.
Еще со своих довоенных детских лет он верный болельщик «Динамо». В неловкости, что ли, за суету своих сборов из дому он раскрыл большой мятый кошелек, доставая с таким трудом добытый билет на стадион «Динамо» как алиби, и в этот момент выпала из кошелька моя довоенная фотография, переломившаяся в плохом хранении на две доли, как раз по моей шее, отсекая голову. Я попеняла: такой моей карточки больше не было. Он вспыхнул, сказал (и это мне памятно): «Я, может, носил ее, как солдаты на фронте фото любимых». Спрятал в кошелек обе доли фотографии.
И был таков.
Люся угощала меня земляничным вареньем на сахарине. Мы о чем-то говорили втроем: она, мама и я. И по мере того, как текли минуты, я все больше чувствовала какую-то мнимость своего здесь присутствия — среди несуразицы забытых слов «дом отдыха», «футбол», «варенье» — и почему-то все время с неловкостью помнила про беременность невестки.
На долгом пути к этому вымечтанному часу возвращения мне не раз рисовались картины нашей общей растроганности, может, даже слезы. Но я запоздала. Уже давно просквозило победным маем. Шел октябрь. Катили тугие послевоенные будни. Тут теперь у каждого было свое.
«Так это и есть теперь мой удел? Мама, невестка, их невзгоды, их резоны?» — с вялой ошеломленностью спрашивала я себя и внутренне ежилась, отстраняясь и винясь.
Я никогда не вернусь домой: теперь меня будет всегда томить, звать какая-то смутная даль и не будет ни воли, ни стимула откликнуться на этот зов.
В войну, пока фронт все еще был близок, я раза три приезжала домой, и все как-то было по-другому. Мы все были ближе друг другу. А когда через день-другой снова надо было на фронт, я не нуждалась в жалости. Да и с чего бы? Прощаясь, бодро отбывая снова на войну, я испытывала теплое чувство ко всем моим родным, кого оставляла, тревожилась и жалела их в их трудной жизни. А теперь мы не виделись почти два года. Это серьезный срок по тем временам. Мы отвыкли друг от друга. А Победа нас и вовсе разлучила. Ей уже сроку пять месяцев — и сменялись эпохи, и коренные перемены коснулись каждой души.
Эти бедные женщины нуждались в сочувствии: мама — откровенно, Люся — замкнуто. И может, с этой нуждой только и ждали меня, уже архаичную в своей военной форме, в своей победительности, вернувшуюся уже не оттуда, где убивают, а из заманчивой «заграницы», где каждый не прочь побывать.
Я явилась домой в гимнастерке, подпоясанной командирским ремнем, да с портупеей и бренча наградами, скрывшими растерянность, о которой некому было догадаться. И не было на всем белом свете никого, к кому я могла бы прильнуть, кто защитил бы меня неизвестно от чего.
Но может, то кралась тоска, двугорбая, как сейчас говорят при повторном приступе болезни. Та, первая, навалилась после Победы и маяла, пока выбиралась домой. А эта неожиданно лепилась с порога, за которым зияло: нет в доме папы, тепла, уюта.
В приоткрытую форточку донесся неспешный шаг возвращавшейся со стадиона конной милиции. Меня притянуло к окну. Внизу по улице валили со стадиона толпища людей.
Все ближе дробь кованых копыт о мостовую. Я податливо прислушалась. И под мерную поступь коней со щемящей силой ощутила грустное величие теснимых, сметаемых, отступающих таинственных лет войны, свою связь с ними и прихлынувшую робость перед неодолимым пространством непонятного, утраченного мной, многолюдного и властного мира.
2
Когда все отгрохало, рвавшаяся к цели тугая лавина войны растеклась, опадая, разом наступил рутинный гарнизонный быт — за шлагбаумом выгороженного для штаба городского квартала. Ни тебе встряски, риска, ни колючего страха и ликующего выдоха одоления его. Возьми-ка этот порог мира, не споткнись.
А на приволье чужих тротуаров, в городе Стендаль, хочешь не хочешь, ты в неуклюжей маске оккупанта. Душа корчится. Не отодрать.
Встречаются рослые парни-подростки в непривычных нам коротких штанах выше колен. Голые, крепкие ноги.
«Wir haben Kinder noch,/ Wir haben Knaben/
Und dann wir leben selbst doch,/ Gott sei Dank!»
«У нас еще есть дети, у нас есть мальчики,/ Да мы еще и сами живы,/ Слава тебе, Господи!» Это кто-то из их старых классиков о давнишнем поражении, с надеждой на реванш.
Ну а эти молча, замкнуто ступающие упруго на загорелых, сильных ногах, эти парни, взращенные на обещанном им «мировом господстве», поступятся или подрастут к реваншу? Неуютно что-то.
Бродя по городу, я забрела в запущенный, пустынный парк. По нетоптаной, заросшей дорожке вышла к ручью, спугнув сорвавшихся с травы воробьев. Маленький, заброшенный мостик через ручей. Одинокая ива. Ее опавшие листочки сбились в стоячей, подернутой тиной воде. А там, где тина не осилила, шевелилась живая вода, и я не могла оторваться от нее. Стою у перильцев мостика: что-то расщепилось, высвободилось во мне, отгороженной от воды, травы — ото всего, что не война.