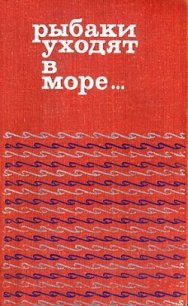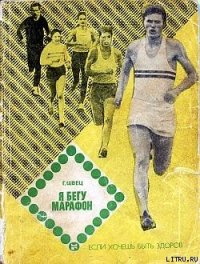Солдат из Казахстана (Повесть) - Мусрепов Габит Махмудович (читаем бесплатно книги полностью txt) 📗
— И стыд не задушил их, когда, упав на колени, они лизали его сапоги! Видно, мы по-разному понимаем слова «гордость» и «честь».
Мягко и незаметно она перешла к другому образу. Среди грохочущих волн неколебимо высится могучий утес. Волны, разбиваясь, откатываются от этой твердыни, имя которой — Москва. Знамя коммунизма развевается над ней, и потому покорить ее невозможно.
И вдруг, повернувшись к Гришину, она спросила:
— А почему вы так изменили свои первые слова? По-моему, вы верно сказали: «Начало крушения фашистской империи»!
— Может быть, — замялся Гришин, — но мне показалось, что это немного пышно.
— Пышно, но правильно. От крушения им теперь никуда уже не уйти. Трещина появилась, фашистский лагерь раскалывается.
Мы все понимали, что впереди нас ждут еще тяжкие дни и месяцы трудной и грозной войны. Мы сознавали, с каким сильным врагом столкнула нас история, но мы знали и то, что разгром под Москвой уже вызвал разложение этих разноязычных полчищ смерти.
И Гуля, и Вася Гришин повторяли то, в чем давно была уверена наша страна и о чем теперь везде говорилось. И понятно, все мы единогласно приняли формулу: «Разгром под Москвой — это начало крушения фашизма».
В тылу хорошо следят за всеми событиями. Здесь уже знают о том, что Гитлер хотел, чтобы оскорбление нашей страны и нашей столицы было увековечено монументом. Он тащил с собой семнадцатиметровую колонну розового мрамора с серебристо-зелеными прожилками, чтобы водрузить ее в Москве в честь победы звериного царства фашизма над страной великих надежд всего человечества.
Был у него припасен подарок и нам, казахам. В хвосте своего обоза обнаглевший бандит отвел место бывшему кокандскому хану Чокаеву, чтобы посадить его на шею казахского народа, когда Казахстан станет колонией «арийских» банкиров. Он надеялся, что «хан» сумеет смирить забывших о рабской покорности «азиатов», отвыкших уже от ярма.
Тыловые сводки также радовали нас: советский тыл давал фронту не только то, чем владел до войны, но и то, что, по планам мирного времени, должно было родиться в нашей стране еще лишь спустя несколько лет. Люди совершали дела, казавшиеся невозможными.
— Производственная нагрузка каждого часа в Караганде увеличилась втрое, — сообщает нам Гуля.
И мы понимаем, что, когда мы бились на фронте, здесь тоже не щадили себя для победы.
В перекличке сирен заводов и шахт Караганды мы слышим строгий приказ родины. Простые слова Гули раскрывают перед нами богатства области, дни и ночи неустанного человеческого труда, как страницы большой книги. Эта маленькая казахская женщина может говорить о Караганде так, что напряженная и сложная жизнь всесоюзной кочегарки видна нам во всех подробностях.
Гуля не ослабляет своей работы, доверенной ей в это тяжелое время партией: вопросы культуры отнюдь не отодвинуты войной на задний план. Люди должны научиться понимать многие вещи, и русло для их познаний прокладывает эта простая миловидная и молодая женщина. Но все же она почти каждый день успевает хотя бы ненадолго заехать и к нам.
— Я тут очень близко живу, — поясняет она, когда кто-нибудь, видя ее усталость, говорит, что ей лучше было бы поспать, чем тратить время на нас, — и к вам захожу по дороге домой.
Особенно привязался к ней Гришин. Он задает ей вопросы, словно какому-нибудь хозяйственнику большого масштаба или профессору геологии.
— И все эти богатства уже освоены?
— Ну не все еще! — снисходительно отвечает она. — Ведь наша степь с первого взгляда кажется однообразной, а на деле тут такое разнообразие! Геологам порядком еще придется поработать.
— И работают они? — требовательно и нетерпеливо спрашивает Гришин.
— Конечно. Но ведь всего не изучишь сразу.
Что волнует Гришина? То ли, что перед его глазами встали богатейшие просторы для работы, геологические загадки, раскрытие которых так соблазнительно для каждого геолога, или то, что маленькая казашка так свободно ориентируется в сокровенных тайнах родной земли?
Гуля вдруг добавляет:
— Вы, как геолог, должны были слышать о письме английского капиталиста Лесли Уркварта к советскому правительству. Он просил разрешения «поковырять» именно в этих степях. По его мнению, сами мы могли бы добраться до этих богатств не раньше, чем через полсотни, а то и через сотню лет.
Гришин оборачивается ко мне с таким выражением, как будто я все это скрывал от него. Я не вытерпел. Гордость за родной Казахстан поднимает меня.
— Ну как? — торжествующе спрашиваю я, сам не думая, что означает это мое «ну как».
Но Гришин понял меня.
— Поразительно!
— То-то! Может, после войны захочешь приехать сюда…
— А что же! Мне только тут и работать! Тут будет нужно столько людей…
Почему-то сразу же после этого он стал звать меня Костей, а я его Васей.
II
В последние дни все пошло совершенно иначе, чем я ожидал и надеялся. Огорчения сыпались на меня одно за другим. Неприятности почему-то не любят ходить в одиночку. К двум всегда старается прицепиться третья. Жду третьей.
Акбота, которая три раза в день писала мне, что приедет ко мне, не приехала. Я увезу с собой из госпиталя лишь тридцать пять ее писем и семь телеграмм, приносивших мне в разной степени радость и счастье, и заключительную, восьмую, которая подсекла под корень все мои ожидания и надежды. Все это скромно можно считать за одну неудачу.
Вторая неприятность постигла меня в моих попытках поскорее покинуть госпиталь. Вот уже несколько дней я веду переговоры с врачом. Я веду их в изысканных выражениях и очень деликатно. До этого я был и умным, и дисциплинированным, и образцом здорового аппетита, и лучшим госпитальным певцом. Мне разрешались и гимнастика, и экскурсия в город — все шло на лад. Но теперь врач переменил свое мнение: он подозревает, что я все это «проделывал», чтобы только добиться скорейшей выписки. Гимнастика отменена, введено строжайшее измерение температуры, дисциплина моя подвергается критике и вызывает недоверие, а то, что я ем за троих, его совершенно не интересует. Он говорит, что «это бывает». Даже показания такого объективного свидетеля, как рентген, он подвергает сомнению и хочет «проверить сам».
Это вторая моя неудача. Правда, я добился все-таки назначения на комиссию. Но кто знает, что там они решат? А пока что моя настойчивость вызвала недовольство госпитального начальства.
К тому же Вася, прибывший вместе со мной, Вася Гришин, у которого были серьезные осложнения и никак не могла закрыться в течение нескольких месяцев рана, признан здоровым и завтра идет на выписку.
В войне и так часто теряешь друзей и знакомых. Мне не хочется расставаться с Васей. Может быть, если нас вместе выпишут, то вместе же и направят в одну часть. А повезет, так обратно в мою часть, к старым друзьям, с которыми Вася успел заочно уже давно познакомиться.
А как все шло хорошо вначале!
«Мама выехала, непременно приеду после окончания курсов. Обязательно, — телеграфировала мне Акбота. — Подробно письмом».
Потом приехала мама. Она была полна радости, ее перекидные ковровые сумки были полны всякой всячины.
— Вот это тебе, мой жеребеночек. И это вот тоже тебе, мой ягненочек. Вот еще тебе, вороненочек мой.
Я был превращен еще и в козленочка и во множество разных других маленьких нежных созданий. Что для матери режим и порядки госпиталя! Она прилетела сюда, как орлица, услышав через горы и степи, что птенец ее вскрикнул от боли.
Мать бросилась ко мне у парадной двери во втором этаже госпиталя, куда я контрабандой спустился, чтобы встретить ее. Это было уже две недели спустя после того, как мне вынули пулю и я считал себя в силах спускаться по лестнице. Совершая этот проступок, я побаивался врачей и сестер, но мать оказалась опаснее их всех: она рассердилась, что здесь за мной плохо смотрят и позволяют вставать с постели. Она почти несла меня на руках по лестнице и по коридору, в нашу палату.