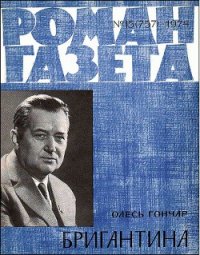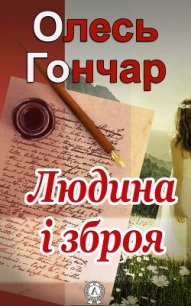Человек и оружие - Гончар Олесь (библиотека книг бесплатно без регистрации .TXT) 📗
Ночь была темная, небо вызвездило, раскинулось над садами, над фронтом широкой полосой древнего Чумацкого шляха — Млечного Пути.
Степура и Духнович, сняв каски, — чтоб отдохнула голова, — сидели в окопе, упершись коленями друг в друга; сидели, смотрели на небо. Из окопа оно казалось особенно звездным. Гроздья созвездий, мерцание светлой пороши неведомых галактик…
— Вот такое же звездное небо, — размышлял вслух Степура, — было и над Гёте, и над Коперником, и над философами и поэтами Эллады. Люди менялись, поколения за поколениями проходили, а оно было все таким же, мерцало и мерцало звездами, как вечность…
— Мерцало-то мерцало, — заметил Духнович, — видело много, но никогда, похоже, не видало оно столько пожаров на земле, столько крови, столько преждевременно оборванных жизней людских…
— Да, теперь насмотрится…
Где-то над Росью в небо взметнулись ракеты противника — даже в окопе стало светлее.
Степура поднялся. Его не покидала тревога за Богдана. Каждая ракета над Росью, казалось, преследует где-то там Богдана, каждый пулемет, что вдруг гулко вспарывает темноту, казалось, бьет по разведчикам.
На душе становилось все тоскливее, пока — где-то уже за полночь — над окопами не прозвучал вдруг знакомый голос сержанта Цоберябого:
— Где тут мой Корчма? Живы ли да здоровы родичи гарбузовы?
А вскоре в Степурином окопе стоял и Богдан Колосовский, мокрый, пахнущий болотом, будто целый день торчал в нем.
— Выбрался? — обнял его Степура. — Рассказывай же!
Присев в окопе, Богдан, к удивлению Духновича, свернул толстенную цигарку, жадно затянулся махорочным дымом. Молчал. Что он им расскажет? Как из семнадцати их осталось пятеро? Ценою жизни товарищей они все-таки удержали мост до прихода саперов, удерживали, пока те не подготовили взрыва, и только тогда отошли. Видели, как разламывается окутанная облаком взрыва серебристая их радуга, как где-то у самого солнца разлетаются разорванные взрывом фермы.
Противник вначале был ошеломлен этим огромной силы взрывом, но вскоре опомнился, начал преследование. То было пострашнее самого боя. Разведчики чувствовали себя дичью, за которой гонятся охотники, которую разыскивают и вот-вот найдут. До вечера скрывались в камышах, погрузившись в теплую, кишащую лягушатами воду. Бег времени словно бы остановился для них. День казался вечностью, но в конце концов все же наступила ночь и вывела их куда нужно, и вот через сутки они снова вошли в подвал командного пункта. Возвращая Колосовскому комсомольский билет, комиссар Лещенко крепко пожал ему руку.
Успешно выполненное задание было бы для Богдана самой большой радостью, если бы все семнадцать разведчиков возвратились оттуда, если бы не оставили навсегда у того моста стольких товарищей, политрука Панюшкина, от которого перешел в наследство Богдану этот черный трофейный автомат, что висит у него сейчас на груди.
— Дружище, что же ты молчишь? — ласково тряхнул Богдана за плечо Духнович.
— В другой раз. В другой раз все расскажу, — сказал Богдан, выбираясь из окопа. — А сейчас пойду — глаза прямо слипаются. До смерти устал. — И через минуту исчез в темноте.
Ощущать в окопе рядом с собой живую душу — счастье. Может быть, нигде, ни в каком другом месте не сможешь так глубоко, по-настоящему оценить человека, друга, как тут. После блуждания по дорогам, после того неопределенного положения, когда Духнович словно бы болтался где-то между фронтом и тылом, окоп Степуры казался ему сейчас таким уютным, таким надежным. Хорошо здесь, спокойно. Земля, правда, за воротник сыплется, и ноги немеют, нельзя их выпрямить, но и теснота тут не в тесноту; кажется, никогда Духновичу не было так просторно, как сейчас; по совету Степуры прилег на дне окопа, с головой закутавшись в раскатанную наконец шинель, отгородившись ею от всего тревожного мира. Впереди ночь, свободная от всяких забот, несколько часов отдыха — Степура настоял на своем и первым заступил на пост. Вот он стоит в углу окопа, настороженный, недремлющий, а Духнович, свернувшись внизу, подложив под голову каску вместо подушки, может свободно предаться самым сладким воспоминаниям, подумать, поспать. Не беда, что тело как на прокрустовом ложе, важно, что в душе — простор и легкость, удивительная какая-то, почти детская безмятежность! Как все относительно в мире! Дивным, сказочным дворцом может стать для человека обыкновенный, тесный фронтовой окоп. Только вот на сколько дней и ночей будет он для тебя жильем и крепостью?..
С этими мыслями Духнович и уснул.
Когда засыпал, вокруг было совсем тихо, лишь кое-где за Росью срывались выстрелы, а вверху, где-то у застывших звезд, ветерок слегка покачивал ветви деревьев. А когда Степура разбудил его, с силой тормоша за плечо: «Вставай! Вставай!» — Духнович, очнувшись, увидел нечто фантастическое: огненный метеоритный дождь с шипением бушевал вокруг. Все было невероятным, ошеломляющим со сна — и ночь, и гомон людей, и всплески ракет, и этот дождь метеоритный, пока Духнович сообразил, что это трассирующими бьют по садам.
Из темноты, из-за реки, доносился непонятный грохот.
— Танки за речкой! — закричал кто-то с берега.
— Танки! Танки! К мосту идут!
— Без паники! Товарищи, без паники! — послышалось над окопами, и студбатовцы узнали напряженно-спокойный голос комиссара Лещенко. — Гранаты, бутылки у всех есть?
— Есть! Есть!
— Забирайте — и к мосту! Командиры, ведите людей!
Возня в садах, редкие окрики командиров, которые собирают в темноте своих бойцов, а за рекой — гул, гул…
Степура, выхватывая из ниши гранаты, бутылки, сунул бутылку и Духновичу.
— Бери! Бежим!
Пригибаясь под перекрестным ливнем трассирующих пуль, через окопы, через картофельное поле бросились бежать туда, куда бежали все: к речке, к мосту.
Грохот за Росью нарастал. Небо над вербами заметно побледнело — начало светать.
В кюветах возле моста было уже полно людей.
— Ложись, ложись! — кричали командиры тем, кто подбегал, и Духнович со Степурой тоже упали, как и остальные, — головой к шоссе.
Лежали тут, плотно прижавшись друг к другу, студбатовцы, и кадровики, и резервисты; в предрассветной мгле лица их под касками были серые. Опершись подбородками на холодные камни шоссе, бойцы всматривались куда-то за реку. Духнович тоже высунулся и увидел по обе стороны шоссе, в кюветах, множество касок, множество человеческих голов, которые тускло поблескивали до самого моста и даже за мостом, — там тоже сновали человеческие фигуры, копошились у самого берега, должно быть, какие-то смельчаки уже успели перебраться низом на ту сторону.
На том берегу росистые заросли верб были еще полны темноты, таинственности, — оттуда, из уходившего в глубь зарослей шоссе все слышнее надвигался тяжелый, грозный грохот.
Духнович почувствовал, как дрожь побежала по всему телу. Почему он дрожит? Потому ли, что прохладой тянет от речки и остывших за ночь камней шоссе? Или бросает его в дрожь вот этот грохот, который медленно, неотвратимо надвигается и от которого содрогается все заречье?.. «Но ведь я же не боюсь! — страстно убеждает он себя. — Мне не страшно, не страшно! Это, видимо, и есть то мгновение, когда даже самый обыкновенный, самый невоенный человек и тот обретает силы на решительный поступок!..» Он чувствовал себя частицей этого застывшего в напряжении коллектива и с удивлением открыл для себя, что он тоже не трус, что он не отступит с этого места, не утратит самообладания, не падет ниц перед надвигавшейся на них черной силой. Это надвигался фашизм, его вероломство, кровавая жестокость, дикость. Были в том грохоте сейчас для Духновича и лейпцигский процесс, и окровавленная Испания, и растоптанная Чехия, надвигались из-за плакучих верб концлагеря, надругательства, смерть миллионов людей на Западе и тут, на земле его Родины. Все это будет, если ты отступишь, не уничтожишь!..
Взгляд его упал на бутылку, которая маслянисто лоснилась, крепко зажатая в руках Степуры. Посмотрел на свою и тоже крепко сжал ее и, сжимая, как бы ощутил весь заключенный в ней огонь.