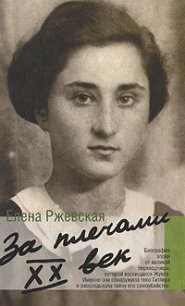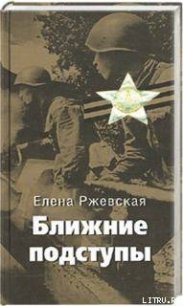Домашний очаг. Как это было - Ржевская Елена Моисеевна (читать полную версию книги TXT) 📗
И в таком альманахе появится моя повесть. С ней, признаюсь, я связывала надежды на литературный успех. И вот он — тут как тут. Господи, да ведь еще и гонорар.
А началось все с того дня, как позвонила Маргарита Алигер — мы не были знакомы — с просьбой передать для «Литературной Москвы» мою повесть. О ней она услышала от Капусто, от верного моего друга Юли Капусто. Но повесть не была закончена, не перепечатывалась начисто и вообще рыхла, нужна еще работа. Тогда Алигер настояла на том, чтобы я прочитала ей несколько глав, которые полагаю готовыми.
С тем я пришла к ней. Алигер, маленькая, закрытая, лицом некрасивая, но фигура изящная, хрупкая, в подчеркнуто облегающем элегантном черном платье, схваченном вдоль стройной спины пуговицами. Должно быть, вернулась с выступления.
Мы сидели друг против друга. Я читала, Алигер слушала с невероятным упорством, выносливостью, с лицом замкнутым, сухим. Когда не уловить, впрок ли читаешь. И ни слова не вымолвила об услышанном. Все по-деловому, суховато, без всякого там расслабляющего чаепития. Сказала тусклым с поскрипыванием голосом: «Нам нужна проза». И условилась со мной, что, окончив повесть, передам ей. Так оно и было. А уж от нее повесть перешла к Казакевичу.
В тот день, когда я побывала у него, Казакевич был в хорошем настроении. Возможно, с утра успешно поработалось и был расположен просто поболтать. Оживленно рассказал кое-какие литературные байки, развеселившие его самого. Но я не была находчивым, непринужденно заражающимся собеседником. К тому же тушевалась под его внимательным, с наклоном головы, взглядом сквозь очки. Ну конечно же хотелось нравиться. А я все еще не согрелась, и лицо мое наверняка сизое. И вообще-то очень хотелось горячего чая.
Но Казакевич, как видно, не прочь был растравить меня на разговор. С лукавым простодушием азартно поддел, рассказан, как приятель, сильно мной задетый, упрашивал его не поддерживать меня, и выжидал, что я скажу на это. Мне было что сказать, но досадно, что Казакевич затеял этот разговор. Я отмолчалась. Спросила:
— И что же вы?
— Как видите.
Он продолжал подшучивать над тем своим приятелем и изображал, как тот важно признается, мол, за его женой нужен глаз да глаз. Это почему-то особенно забавляло Казакевича, он повторял, смеясь: «глаз да глаз».
Оживленный, он был грубовато артистичен. А замолкал и становился похож на ученого: этот гладкий, высокий лоб, умное, интеллигентное лицо, очки в темной оправе. А где-то на донышке глаз за стеклами что-то грустное — не растворившийся в жизнелюбии Казакевича исконный, генетический фон. И фотографии в книге о Казакевиче подтверждают то давнее мое восприятие. Глаза грустные в разные времена жизни.
Он заговорил о повести, прочно сел, упираясь ладонями в кровать. Подробно разобрал один эпизод. Похвалил.
— Но вот еще что. Вашего парторга нужно заменить на профорга.
Я не сразу поняла, что это всерьез.
— Повесть мало что потеряет, но это нужно.
В этой повести был эпизод: парторг предприятия внезапно подкошенно влюбился, чего при его сухости, жесткости никак нельзя было ожидать. Будучи женатым, тотчас попал под удар и тех, на кого еще недавно беспощадно обрушивался за «моральный проступок». И под удар партийных инстанций. Какой уж тут профорг.
Мы натянуто молчали. Я, конечно, понимала, не с неба свалилась, хотя речи у нас об этом не было: на «Литературную Москву» навалились, подбираются прикрыть, и рискованно альманаху подставиться с «нетипичным» парторгом в «нетипичной ситуации». Не стерпят.
Сейчас даже тошно писать о том, что тогда, в 1957-м, альманаху приходилось взвешивать, отстаивая свое существование. Но иногда, может, и стоит вспомнить, в каких тисках было писательское дело [6].
Потихоньку смеркалось, ранний вечер вползал в комнату. Казакевич поднялся, включил свет, вернулся на прежнее место. От электричества все стало резче, явственнее. Ему не доставляло удовольствия меня уговаривать, он все же продолжил. Я не могла согласиться.
Профорг — совсем другая фигура, не состыкуются сцены, неестественна вся ситуация.
Казакевич остановился. Не знаю, что подумал про себя. Вслух сказал едко:
— Значит, вам не нужны деньги.
Я сошла с крыльца, мало что различая со света. Глухо вокруг — дачный сезон давно кончился, все повыехали.
Немного прошла, оглянулась. Ярко горело окно Казакевича — одно на всю округу. Прочие дома отступили от него во мрак. Поежишься: как одиноко тут Казакевичу. Не знала, что напротив дача Маргариты Алигер, преданно влюбленной в него. Связанная с Москвой дочками-школьницами, она все чаще вырывалась сюда, и все чаще вспыхивали окна ее уютной дачи. А немного подальше жил безвыездно круглый год Каверин, горячо расположенный к Казакевичу и тоже соратник по альманаху. Здесь-то и вершилось это литературное дело.
Я шла на ближайшую станцию. Мичуринец, лесом, опасаясь сбиться с тропинки. Шорохи, скрип сухих сучьев, покачивание ткнувшей меня в плечо ветки, растерявшей листья, и опять — шорохи, шевеление, перешептывание — какой-то тихий, тревожный сговор в лесу. С прижатой к боку рукописью, с теребящей душу досадой я спешила на станцию, на огни полупустой электрички, в многолюдье метро.
«Единственный благородный литературный орган в это пошлое страшное время под угрозой закрытия», — запишет в дневнике К. Чуковский.
Третий сборник не вышел. Альманах «Литературная Москва» запрещен.
Известие о том, что смертельно болен Казакевич, ударило меня. Когда в редакции «Нового мира» появлялась Маргарита Алигер, преданный друг его, это означало, что Казакевичу хуже и нужно лекарство, которого не бывает в продаже, нужен консилиум или снова больница. Алигер скрывалась за дверью кабинета Твардовского. Только он где-то там на самом «верху», хотя немало сил стоили ему эти контакты, мог своим именем добиться для больного невозможного. За этим она приходила. Заслышав в холле ее голос, я остро проникалась состоянием Казакевича, при всех физических муках страдавшего больше всего от того, что подступавшая смерть рушит открывшийся ему огромный замысел.
За несколько дней до конца он говорил Твардовскому: «Ничего не хочу, никаких услад жизни праздной, ни отдыха, — хочу писать, — ужасно это проговаривание всего в голове вхолостую…»
Полюбив его первые маленькие повести, соприкоснувшись с ним самим своей работой, я не знала, что он вошел в мою жизнь теснее, чем я могла ощутить до этих трагических дней.
Глава последняя
Когда-то Борис Слуцкий во фронтовом письме писал мне, что, планируя послевоенную литературу, он оставляет за мной место в 60-х годах. И вот шестидесятые на подходе.
Я благодарна судьбе за то, что мне выпало прожить эти годы в тесной связи с «Новым миром» Твардовского, печататься на его страницах, дружить с талантливыми людьми — сотрудниками журнала.
Сейчас трудно себе представить, в каком удушье цензуры, директивных органов, при какой агрессивности мракобесной прессы, постоянной угрозе его существованию работал «Новый мир», издавая вопреки всему свои номер за номером.
И всегда, какое бы ЧП ни грянуло, не было поисков виноватого. Все удары принимал на себя Александр Трифонович Твардовский. И при самых неблагоприятных для журнала обстоятельствах всегда говорил: «Нам надо держать уровень». Это был, можно сказать, рабочий девиз журнала.
Я шла по нашей аллее Ленинградского проспекта в предвечерний час, когда возвращались люди с работы. Приноровясь к шагу тех, кто опередил меня, слыша их речь, восклицания, перебранку, заборную ругань без злобы, я чувствовала себя проникшейся их жизнью, даже больше — ими самими. Уже миновали мой дом, а я все шла, увлеченная причастностью к этим людям, — так заразительна была их сочная речь, их заботы, ругань и козни, радуясь открывшейся мне способности перевоплощения.