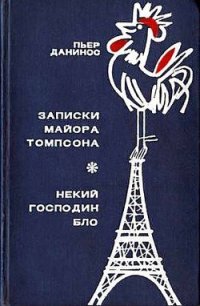Записки отставного медицин-майора - Шуля-Табиб Владимир (читать книги онлайн полностью без сокращений txt) 📗
Мужик неопределенного возраста, где-то между пятьюдесятью и семьюдесятью, истощенный до предела, словно сошедший с фотографии узников Освенцима. Невероятные лохмотья, воняет мочой и калом, Волос седой, длинный, вши — ей-богу, полкило каждая! — ползают по щетине на щеках, полуоторванному вороту. Правая нога заголена, на голени большая гнойная рана, в ней копошатся белые черви. Глаза мутные, взгляд фиксирует с трудом. Что-то бормочет — бессвязно. Изо рта — амбрэ неописуемое. Алкоголь явно присутствует. Бомж.
Анечка стряхнула вшей, заголила руку, мерит давление.
— Сто на шестьдесят.
— Терпимо.
Пульс слабоват, но ритмичен, сто в минуту.
— Петя, носилки! Аня, в машине глюкозу в вену и поехали. Сержант, когда его обнаружили?
— Нам позвонили полчаса назад.
— Я вчера вечером шла, — подала голос маленькая старушка из толпы, — подумала, пьяный, ну и…
— Он и утром вчера лежал! — перебил ее здоровенный грузный мужик. — Я, это дело, значит, на работу собираюсь, в окно глянул — лежит ктой-то. Ну, сейчас не зима, думаю, пускай проспится.
— Точно, точно! — еще одной тетке не терпится доложить о своей осведомленности. — Я тоже в окно видела! Ну, нажрался, ну, свинья, когда ж это кончится! А милиция…
— Когда вы его увидели? — перебил я. — Тоже вчера или только сегодня?
— Вчера, вчера!
— Днем вчера как завалился, так и лежит! — Дама с голубыми кудряшками, исполнена праведного гнева, аж кипит. — И утром смотрю — все еще лежит, мерзавец! До обеда подождала, посоветовалась с соседями, решили вызвать милицию. Безобразие, дети ведь видят!
— Молодцы! — едва сдерживаясь, сказал я. — Сутки весь пятиэтажный дом любовался лежащим человеком, сутки! Все сразу решили, что он пьян, причем издали решили, и никому в голову не пришло, что ему может быть просто плохо! И вызвали не «скорую», а милицию!
— Но, доктор, позвольте…
— Не позволю! Я теперь ваш дом за три квартала объезжать буду! Помирать будете — а я через сутки! Загибайтесь себе на здоровье!
Хлопнул дверцей, кивнул Пете — погоняй, друг, тошнит меня от этих совковых буржуа больше, чем от несчастного бомжа.
— Продолжение спектакля в больнице! — смеется Петя.
— А иди ты…
Даже не хочется думать, как встретит нас приемное отделение больницы. Вот ЭТО, что мы привезли, надо мыть, дезинфицировать, лепить из лохмотьев какое-то подобие одежды, потом долго и трудно лечить. А ОНО на следующий после выписки день нажрется и ляжет там же…
— Центральная!
— На приеме.
— Тройка свободна.
— Октябрьский, 17, квартира 62. Шестьдесят лет, женщина, плохо с сердцем.
— Понял, еду.
Это штатная пациентка, встречаемся как добрые знакомые. У нее пароксизмальная тахикардия, приступ снимается за пять секунд, уколол — и порядок, человек ожил на глазах.
— Здравствуйте, Мария Семеновна! Что, опять параксизмалочка?
— Она, доктор, она! Таки совсем замучила, нет моих сил, на бисхаим пора! Не дождусь вот никак…
— Кокетничаете, Мария Семеновна! Хотели бы на кладбище, меня бы не звали! Аня!
— Как всегда?
— Да. А вы, дорогая, на всякий случай запомните: со смертью кокетничать опасно: будете звать — придет, причем быстрее, чем я! А вот в больницу вам не мешало бы недельки на три. Поди, года четыре уже не были? А?
— Хм, в больницу! А куда ж я Иосифа дену? Вы же его со мной не возьмете? У него же нет обострения, так?
Черт, как же я забыл? Муж у нее в другой комнате, парализованный после инсульта. Красивый такой старикан с густой курчавой сединой, крупным носом, черными, чуть навыкате, умнющими глазами — в инвалидной сидячей коляске. Все понимает, только вот ни есть сам не может, ни в туалет, ни сказать. Но как же понятно он молчит! Как кричат от тоски и душевной боли его глаза! В первый свой визит я спросил старушку о детях — лучше б не спрашивал. Все они в Израиле, и друзья там же, а кто и на кладбище. Пока дети с внуками были здесь, старик держался, но уехать с ними не захотел: здесь прожил жизнь, воевал, здесь родные могилы — как от всего этого уедешь? Но уехали они — через месяц инсульт, парализовало. И если — а это непременно случится — жена когда-то не доберется до телефона, он вызвать «скорую» не в состоянии, ни даже соседей позвать, будет молча смотреть, как она умирает, а потом сам следом.
Сейчас бы он, пожалуй, уехал к детям, да где уж! Не то что автобус, вокзал, билет, самолет — да и просто оформиться с документами — от всего этого и здоровый заболеет. А в больницу его и в самом деле не примут. Ему нужен только уход, и у него, считается, есть жена. Нет в больнице мест для таких одиноких стариков. Да и вообще им в жизни места нет.
— Ой!
Нормально, ритм пошел, в этот раз обошлось.
— Тройка, освободилась? Крутой переулок, 23, обезбольте. Два промедола.
— Понял, два промедола.
Тоже постоянный пациент. Но уже ненадолго: безнадежный рак. Лучше уж три тяжелых вызова, чем один такой сверхлегкий: уколол, немного облегчил и прощай до завтра. Обычно это работа фельдшера, я даже не выхожу из машины, но к этому больному пойду я. Когда я еще работал в военном госпитале, этот подполковник лежал там с диабетом. Палату передали мне, я заново провёл всё обследование и диагностировал у него рак головки поджелудочной железы. Его перевели в онкологию, но оперировать было уже поздно, отпустили помирать домой. Все равно это мой больной, и отправлять к нему одну Аню неудобно.
— Здравствуйте, Федор Иваныч!
Какое там здравствуйте, с порога видно — финиширует мужик. Худущий, живот огромный — водянка душит. Мечется.
— Ой, Владим Михалыч! — плачет жена. — Не узнает уже ни меня, ни вас, никого!
— Что это? — хрипит он. — Я же умираю, или вы ослепли, не видите? — напряженно хрипит, а кажется ему, что кричит. — Я уже умер…
Вдруг взгляд проясняется, фиксируется на мне:
— А-а, тебя я помню, майор… — Длинный костлявый палец пистолетом уперся в меня, в глазах полыхает ненависть. — Это ты мне из диабета рак сделал! Ты меня убил, ты…
Глаза опять замутились, бессмысленно смотрят в потолок, голос угасает.
— Аня, набрала? Коли!
— Владим Михалыч, не серчайте на него, он не в себе!
— Я понимаю. До свиданья, Надежда Петровна!
Знакомая картина: в древности гонца, принесшего худую весть, убивали. Теперь худую весть принес я, и он бы с удовольствием убил меня, если б смог, вон сколько ненависти в глазах. Вот так и вся страна: жили себе потихоньку, не тужили, приворовывали к нищенской зарплате помаленьку, с несбыточными мечтами о машине да поездке в Болгарию или Польшу. Вдруг какие — то долбаные интеллигенты — «дерьмократы» обнаружили, что экономика в стране смертельно больна, система нежизнеспособна, надо срочно оперировать! Увы, операция, хотя и болезненная, не помогла, как и этому подполковнику. Тогда все развернулись против «хирургов»-либералов: Горбачёва, Яковлева, Собчака: «Это вы Россию погубили, вы!!!»
— Центральная!
— Шеф, взгляните на часы! — взмолилась Аня.
— О, и в самом деле восемнадцать десять! Не волнуйся, Анечка, команда сейчас будет.
— Тройка, возвращайтесь!
— Ну, что я говорил?
Восемнадцать десять — через пять минут по телеку начнут рыдать богатые. Прекрасный, золотой слезливо-маразматический фильм, ура тебе! Привет тебе, чума! Вероника, я люблю вас! Как только вы со своим Луисом-Альберто начинаете плакать, вызовы практически прекращаются. Весь город срочно выздоравливает, разве что авария где-нибудь нарушит всеобщую здравоохранительную гармонию. И у нас, на «скорой», все женщины собираются к телевизору. Придется мне подменить Светку-диспетчера и заслужить неподдельную благодарность, а благодарность диспетчера кое-чего стоит.
Кстати, а чем привлекает это, извините за выражение, искусство? Нет-нет, я не хочу никого обижать, мне просто интересно, почему миллионы людей с таким нетерпением ждут очередной серии, что именно их влечет? Не потому ли, что все прочее уже смертельно надоело: и коммунисты, и демократы, и мафия, и голые бабы, убийства, следователи — словом, все, что «про нас». Самая гнусь нашей жизни — все, что на «скорой» мы потребляем невероятными дозами, осточертела всем до смерти. И они будут обливаться слезами над вымыслом, будут рады хоть издали полюбоваться чистым чувством, плакать от счастья, что очередной гадкий утенок превратился в прекрасного лебедя. Плевать на деревянного Луиса-Альберто, на тупую посредственность всех остальных. Над горем Марианны плачут навзрыд и равнодушны к горю, которое рядом и куда более страшное. Наши, свои, родные горемыки НА-ДО-Е-ЛИ! Наверно, еще и потому, что своим помогать надо, а не плакать. Плакать-то оно полегче, слезы, говорят, душу облегчают. Фильм-наркотик, вот в чем дело. И прокатчики подлежат привлечению…