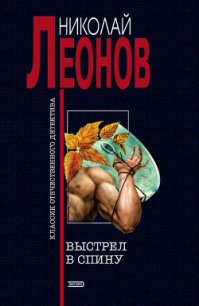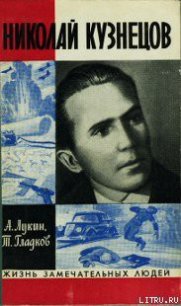Жили два друга - Семенихин Геннадий Александрович (библиотека книг .TXT) 📗
– А ты у Гитлера или у Геббельса спроси. По-моему, когда возьмем Берлин, тогда все и кончится.
– Ты мне, как ротный агитатор, отвечаешь.
– Ротные агитаторы тоже дельные вещи говорят.
– Не хочешь ты меня понять, Николай, – грустно заметил Пчелинцев. – Разве мне себя и своей усталости жалко? Я же обо всех говорю. Сколько братских могил мы оставляем на своем пути, каких красивых парней теряем. А усталость, ты прав. Это зараза, и нельзя, как болезни, ей поддаваться Но как бы хотелось, чтобы мы до конца этого года взяли Берлин, а новый, сорок пятый стал бы годом Победы. Нашей Победы! Я бы тогда быстро свою книгу закончил.
Он лег навзничь и долго смотрел в низкое небо, запеленатое тучами. Демин не видел его лица, но по голосу чувствовал настроение стрелка, УТОМЛРННОГО последними напряженными днями. Он думал о том, как трудно этому парнишке с нежной, хрупкой душой подниматься но два-три раза в воздух на зеленом грохочущем ИЛе, встречать за линией фронта потоки огня, караулить зону за хвостом самолета, а потом выходить на аэродроме из задней кабины с головой, распухшей от бензиновых паров и перегрузок, обрушивающихся на пикировании, боевых виражах, разворотах. И еще он подумал о том, что задняя кабина на ИЛе слабее защищена броней в сравнении с передней, и от этого Пчелинцев, как и все другие стрелки, подвергается во время зенитного обстрела куда большей опасности, чем летчик.
– Тебе бы денька три не летать, отдохнуть, – заметил он сочувственно, но Пчелинцев привстал на локтях, тревожным шепотом возразил:
– Что ты, Николай! Сколько раз в бой ты, столько и я. А грусть и усталость к дьяволу, как в той классической бетховенской застольной: «Все, что не пьется, к чертям!»
Демин оживился и предложил:
– Слушай, а может, и вправду по сто граммов… А? У меня есть и таранька с сухарями. Вот история с географией!
– Нет, – спокойно возразил стрелок, – от ней, горькой, только тоскливее станет. Ты как хочешь, а я нет. Не спаивай подчиненного. Ты лучше стихи мне почитай, Николай.
– Какие? – рассмеялся старший лейтенант. – Из той тетради, где они неоконченные?
– Давай из той.
Демин встал с похолодевшей земли, расправил затекшие колени и голосом задумчивым и очень-очень тихим стал читать. Читал и оглядывался по сторонам, чтобы никто к ним не подошел невзначай.
Пчелинцев слушал, не вставая, дремотно смежив веки, потом повторил:
– «Месяц в воду опустил лучи, хочет словно веслами грести». А что, лирично. Честное слово, лирично. Грустно и лирично. Но почему ты не заканчиваешь свои стихотворения, Николай? Если начал – доводи до конца. Ты же летчик!
Два дня подряд ненастное небо висело над капонирами и рулежными дорожками аэродрома. С одной крайней стоянки другую уже не было видно: тонула в туманной мгле. Набухшие влагой облака только что не задевали за тонкую антенну автомашины-радиостанции.
Странная тишина оковала аэродром. Ни один мотор не взревел в течение дня, ни один самолет не поднялся в воздух. Перестрелка на берегах Вислы тоже смолкла, орудия били редко и лениво. Пользуясь непогодой, начальник штаба майор Колесов разрешил летчикам и воздушным стрелкам увольнение в город. Вместе с другими отправился туда и сержант Пчелинцев. Спасаясь от моросящего дождя, он надел длинную плащ-палатку, капюшоном прикрыл голову в новенькой авиационной фуражке.
Город ничем его не поразил. Узкие улочки, вывески над маленькими «склепами» на незнакомом польском языке.
На стареньких «роверах» проносились по мокрым улицам мужчины и женщины в блестящих разноцветных плащах.
Гитлеровцы и в этом маленьком городке оставили следы разрушений. На пепелищах копошились черные фигурки, скорбные в своем одиночестве и печали. К зданию костела на велосипеде подъехала молодая монашка с крестом на белом чепчике. В закусочной мужчины сосредоточенно гремели кружками, о чем-то споря. Воробей пугливо пил воду из бомбовой воронки на центральной площади, время от времени стряхивая с перышек дождевые капли.
Шагая по городу, Пчелинцев думал о неистребимой силе жизни. Вот прошумели бои, фашисты выбиты за Вислу, и первое время городок этот казался мрачным и вымершим. Редкие прохожие с опаской поглядывали на наших солдат и офицеров, о которых столько ужасов рассказывали немцы. Но вот прошло всего несколько дней, и городок ожил. Возвратились жители, застеклили опустевшие дома, зажгли в них свет, стали выкапывать спрятанное имущество. А вечером уже и аккордеон где-то завел несложную танцевальную мелодию, и скрипочка бойко запиликала в прокопченном кабачке с низкими сводами и полусонным седеньким буфетчиком у стойки.
«Погибну я или останусь в живых, а жизнь с ее радостями и горестями все равно будет продолжаться, – подумал про себя Пчелинцев. – И важно вовсе не это. Важно, чтобы жизнь была праведной, чтоб она полной мерой воздавала людям за труд, делала их веселыми, сильными и счастливыми».
Девушка в красной бархатной курточке улыбнулась воздушному стрелку. Дрогнула над ее переносьем тонкая цепочка бровей, плутовато ушли в сторону карие глаза.
Но Пчелинцев вспомнил о Заре и подчеркнуто строго сжал губы, чтобы польская девушка не подумала, что попала в цель. Но, право слово, напрасно он это сделал, потому что юная паненка давно уже свернула в переулок и навсегда потеряла его из виду.
Достигнув центра, он свернул в маленький скверик с заброшенными клумбами и засохшими на них цветами. На желтых дорожках лежали опавшие листья каштанов и тополей. Ветер мел обрывки газет и афиш. Было немо и пусто в этом когда-то, очевидно, оживленном скверике. Только на одной из скамеек сидел плохо одетый пожилой человек и, отвернувшись от аллеи, безучастно смотрел вдаль. Пчелинцев прошел мимо, но какая-то сила заставила его оглянуться. Он увидел худое, морщинистое лицо, оцепеневшее от горя, и слезы, сбегавшие по щекам.