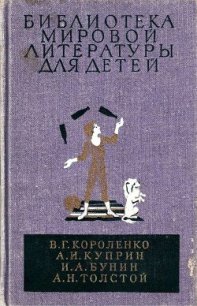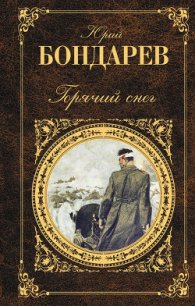Библиотека мировой литературы для детей, т. 30, кн. 1 - Бондарев Юрий Васильевич (читать книги бесплатно .TXT) 📗
— Огонь! Огонь! Огонь по танкам! — выкрикнул Кузнецов и внезапно, словно что-то выпрямило его, вскочил, кинулся к мелкому, недорытому ходу сообщения. — Я туда!.. Во второй взвод! Чубариков, остаетесь за меня! Я к Давлатяну!..
Он бежал по недорытому ходу сообщения к молчавшим орудиям второго взвода, продираясь меж тесных земляных стен, еще не зная, что на позициях Давлатяна сделает, и что может сделать, и что сумеет сделать. Ход сообщения был ему по пояс — и перед глазами дрожала огненная сплетенность боя: выстрелы, трассы, разрывы, крутые дымы среди скопищ танков, пожар в станице. А справа, покачиваясь, три танка шли в пробитую брешь, свободно шли в так называемом «мертвом пространстве» — вне зоны действенного огня соседних батарей; они были в двухстах метрах от позиции Давлатяна, песочножелтые, широкие, неуязвимо-опасные. Потом длинные стволы их сверкнули пламенем. Разрывы на бруствере отбросили рев моторов — и тотчас над самой головой Кузнецова спаренными трассами забили пулеметы.
И в отчаянии оттого, что теперь он не может, не имеет права вернуться назад, а бежит навстречу танкам, к своей гибели, Кузнецов, чувствуя мороз на щеках, закричал призывно и страшно:
— Давлатя-ан!.. К орудию!.. — И, весь потный, черный, в измазанной глиной шинели, выбежал из кончившегося хода сообщения, упал на огневой, хрипя: — К орудию! К орудию!
То, что сразу увидел он на огневой Давлатяна и что сразу почувствовал, было ужасно. Две глубокие свежие воронки, бугры тел между станинами, среди стреляных гильз, возле брустверов; расчет лежал в неестественных, придавленных позах — меловые лица, чудилось, с наклеенной чернотой щетиной уткнуты в землю, в растопыренные грязные пальцы; ноги поджаты под животы, плечи съежены, словно так хотели сохранить последнее тепло жизни; от этих скрюченных тел, от этих застывших лиц исходил холодный запах смерти. Но здесь были, видимо, еще и живые. Он услышал стоны, всхлипы из ровика, однако не успел заглянуть туда.
Он смотрел за посеченное осколками колесо орудия: там под бруствером копошились двое. Медленно поднималось от земли окровавленное широкоскулое лицо наводчика Касымова с почти белыми незрячими глазами, одна рука в судороге цеплялась за колесо, впивалась черными ногтями в резину. По-видимому, Касымов пытался встать, подтянуть в орудию свое тело и не мог — его пальцы скребли по разорванной резине, срывались; но, выгибая грудь, он вновь хватался за колесо, приподымаясь, бессвязно выкрикивал:
— Уйди, сестра, уйди! Стрелять надо… Зачем меня хоронишь? Молодой я! Уйди… Живой я еще… Жить буду!
Сильное его тело было как бы переломлено в пояснице, что-то красное текло из-под бока, затянутого бинтами, а он был в той горячке раненого, в том состоянии беспамятства, которое обманчиво отдаляло его от смерти.
— Зоя!.. — крикнул Кузнецов. — Где Давлатян?
Рядом с Касымовым лежала под бруствером Зоя и, удерживая его, раздирая в стороны полы ватника, спеша накладывала чистый бинт прямо на гимнастерку, промокшую на животе красными пятнами. Лицо было бледно, заострено, с темными полосками гари, губы прикушены, волосы выбились из-под шапки — чужое, лишенное легкости, некрасивое лицо с незнакомым выражением.
Услышав крик Кузнецова, она быстро вскинула глаза, полные зова о помощи, зашевелила потерявшими жизнь губами, но Кузнецов не расслышал ни звука.
— Уйди, уйди, сестра! Жить буду!.. — выкрикнул в бессознании Касымов. — Зачем хоронишь? Стрелять надо!..
И оттого, что Кузнецов не услышал ее голоса, а слышал крик Касымова, метавшегося в горячке, оттого, что ни она, ни Касымов не видели, не знали, что прорвавшиеся танки идут прямо на их позицию, Кузнецов снова испытал ощущение нереальности, когда надо было сделать над собой усилие, тряхнуть головой — и он вынырнет из бредового сна в летнее, спокойное утро, с солнцем за окном, с обоями на стене и вздохнет с облегчением оттого, что виденное им — ушедший сон.
Но это не было сном.
Он слышал над головой оглушающе-близкие выхлопы танковых моторов, и там, впереди, перед орудием, распарывал воздух такой пронзительный треск пулеметных очередей, будто стреляли с расстояния пяти метров из-за бруствера. И только он один осознавал, что эти звуки были звуками приближающейся гибели.
— Зоя, Зоя! Сюда, сюда! Заряжай! Я — к панораме, ты — заряжай! Прошу тебя!.. Зоя…
Валики прицела были жирно-скользкими, влажно прилип к надбровью резиновый наглазник панорамы, скользили по рукам маховики механизмов — на всем была разбрызгана кровь Касымова, но Кузнецов лишь мельком подумал об этом — черные ниточки перекрестия сдвинулись вверх, вниз, вбок; и в резкой яркости прицела он поймал вращающуюся гусеницу, такую неправдоподобно огромную, с плотно прилипающим и сейчас же отлетающим снегом на ребрах траков, такую отчетливо близкую, такую беспощадно-неуклонную, что, казалось, затемнив все, она наползла уже на самый прицел, задевала, корябала зрачок. Горячий пот застилал глаза — и гусеница стала дрожать в прицеле, как в тумане.
— Зоя, заряжай!..
— Я не могу… Я сейчас. Я только… оттащу…
— Заряжай, я тебе говорю! Снаряд!.. Снаряд!..
И он обернулся от прицела в бессилии: она оттаскивала от колеса орудия напрягшееся тело Касымова, положила его вплотную под бруствер и тогда выпрямилась, как бы еще ничего не понимая, глядя в перекошенное нетерпением лицо Кузнецова.
— Заряжай, я тебе говорю! Слышишь ты? Снаряд, снаряд!.. Из ящика! Снаряд!..
— Да, да, лейтенант!..
Она, покачиваясь, шагнула к раскрытому ящику возле станин, цепкими пальцами выдернула снаряд и, когда неловко толкнула его в открытый казенник и затвор защелкнулся, упала на колени, зажмурилась.

А он не видел всего этого — огромная, вращающаяся чернота гусеницы лезла в прицел, копошилась в самом зрачке, высокий рев танковых моторов, давя, прижимал его к орудию, горячо и душно входил в грудь, чугунно гудела, дрожала земля. Ему чудилось, что это дрожали колени, упершиеся в бугристую землю, может быть, дрожала рука, готовая нажать спуск, и дрожали капли пота на глазах, видевших в эту секунду то, что не могла увидеть она, зажмурясь в ожидании выстрела. Она, быть может, не видела и не хотела видеть эти прорвавшиеся танки в пятидесяти метрах от орудия.
А перекрестие прицела уже не могло поймать одну точку — неумолимое, огромное и лязгающее заслоняло весь мир.
Он нажал на спуск и не услышал танковых выстрелов в упор.
Глава двенадцатая
Со страшной силой Кузнецова ударило грудью обо что-то железное, и с замутненным сознанием, со звоном в голове он почему-то увидел себя под темными ветвями разросшейся около крыльца липы, по которой шумел дождь, и хотел понять, что так больно ударило его в грудь и что это так знойными волнами опалило ему волосы на затылке. Его тянуло на тошноту, но не выташнивало — и от этого ощущения мутным отблеском прошла в сознании мысль, что он еще жив, и тогда он почувствовал, что рот наполняется соленым и теплым, и увидел, как в пелене, красные пятна на своей измазанной землей кисти, поджатой к самому лицу. «Это кровь? Моя? Я ранен?»
— Лейтенант!.. Миленький! Лейтенант!.. Что с тобой?..
Выплевывая кровь, он поднял голову, стараясь понять, что с ним.
«Почему шел дождь и я стоял под липой? — подумал он, вспоминая. — Какая липа? Где это было? В Москве? В детстве?.. Что мне померещилось?»
Он лежал грудью на открытом снарядном ящике между станинами, на два метра откинутый взрывной волной от щита орудия. Правая сторона щита разорванно торчала, с неимоверной силой исковерканная осколками. Правую часть бруствера начисто смело, углубило воронкой, коряво обуглило, а за ним в двадцати метрах было объято тихим, но набиравшим силу пожаром то лязгавшее, огромное, железное, что недавно неумолимо катилось на орудие, заслоняя весь мир.
Второй танк стоял вплотную к этому пожару, развернув влево, в сторону моста, опущенный ствол орудия; мазутный дым длинными, извивающимися щупальцами вытекал из него на снег.