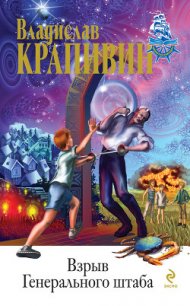Таврические дни (Повести и рассказы) - Дроздов Александр Михайлович (читать книги онлайн без сокращений .txt) 📗
— Разрешите сказать, — заговорил Аркадий Петрович, омерзительно дрожа, — здесь явное недоразумение. Смешно во мне предполагать большевика потому, что у меня фиктивный советский документ.
— Вам, может быть, смешно, а нам не смешно подставлять вам наши спины. Не прикидывайтесь, научены.
— Даю вам слово, вы меня не поняли.
— Молчать! Ни слова! Молчать!..
— Брось, брось, Саша, — сказал генерал, — утирая лоб рукавом кителя, — может, он и впрямь, этот… Ты уж сейчас же, как порох: пыф, пыф! Скажи, чтобы заперли покуда, где он там сидел? Простоим здесь, видно, до утра — поспеем.
— Я бы их, сукиных детей, прямо на сук.
— Сук и к утру не обломится, ну его к собакам под хвост. Вторую ночь, ей-богу, не спал! А ты наделал грому! Гляди, проснулась Полет. Ну, как же это можно, уж разбудили, уж проснулась Полет.
Встревожившись, он поднялся из-за стола, застегивая тужурку. На столе качнулась бутылка, пробка соскочила с горлышка, запрыгала по земляному полу.
Вглядевшись, Аркадий Петрович увидел на скамье прикрытую беличьей шубкой женщину. Ее лицо, которое она высвободила из-под капора, было молодо, почти юно, истомленно и капризно. Нос с горбинкой делал ее похожей на совенка. Она подтянула ноги в барашковых ботах и сердито поглядела на Аркадия Петровича.
— Проснулась, Полет? — спросил генерал тревожно, стоя перед ней навытяжку, как перед главнокомандующим. — Это такой уж крикун Саша. Не болит голова? Я говорил тебе, что на фронте тяжело, грязно и холодно. Какое сумасбродство!
— Кто этот человек? — спросила Полет сонным голосом, кивнув в сторону Аркадия Петровича острым подбородком.
Адъютант сказал:
— Большевистский шпион, мадам. Жаба из московского болота.
Аркадий Петрович, холодея, смотрел в совиные глаза Полет. Она концом губ улыбнулась ему:
— Шпион? Вот не ожидала, что они так интеллигентны!
— Ну, уж и шпион, — примирительно забасил генерал. — Саша вечно выдумает. Послушать Сашу, так шпионы растут под каждой березой. Спи, Полет, завтра опять наступаем: если так пойдем, через месяц ударим в Ивана Великого. Слышь-ка, Гаврильчук, отведи его, откуда привел, да приставь часового. Саша, налей.
Адъютант взял бутылку, поглядел на свет и опрокинул в стакан, вина оставалось только на донышке. Генерал выпил, крякнул, расстегнул рубашку и штаны, поглядел оплывшими глазами на пойманных, сделал губами: фу-фу-фу-х.
— А мужика, Гаврильчук, отпусти на все четыре стороны, жена там у него, говорит, родит. Кого родит-то?
— Как?
— Белого, спрашиваю, родит аль красного?
— Как?
— «Как», «как»! Глядит на меня, что гусь на молнию. Коммуниста, спрашиваю, ждешь аль русского?
— Что прикажете, ваше благородие, то и сделаем, — сказал Королев, кланяясь в пояс. — Можно мне иттить?
— Иди, брат, да морду утри, бабу напугаешь.
— Може, дозволите заночевать в селе? Время, ваше благородие, неспокойное.
— Ладно, ночуй. Ну, веди их, Гаврильчук.
Аркадий Петрович не пытался протестовать, он был скован страхом, растерянностью, был он подавлен и будто уже не жив, машинально поклонился и послушно пошел за солдатом.
Ночь была душная, томящая, воздух плотен, ветер стих.
Солдаты подремывали на завалинке.
Королев протянул Аркадию Петровичу большую свою руку.
— Прощевай покеда, помоги тебе бог, чтобы благополучно. А я тут вот с земляками перемогусь.
Аркадий Петрович пожал Королеву руку и побрел за Гаврильчуком, побитый и растерянный. На селе еще слышен был хохот, а избы стояли настороженные, невеселые, окошки светились лишь кое-где. И опять прошли калиткой в кособоком плетне, опять пошли садом, тихим и сонным гумном. В яблонях шуршала трава, возился кто-то.
— Да легче ты, черт, — сказал дурной голос, — вишь лежит, как мертвая.
— Ладно, на тебя хватит, — сказал другой прерывисто.
Гаврильчук повел головой:
— Ребята наши балуются. Что ни село, то девок двадцать в расход.
На гумне было светлее, небо освободилось от туч, камешками стояли звезды и ревел, как море, крепчающий ветер.
Аркадий Петрович вошел в ригу покорно, как домой.
Запирая за ним щеколду, Гаврильчук сказал простым голосом:
— Ты посиди тут, господин, покеда сторожевого к избе не пришлю. Все ребята, гляди, поразбежались.
В риге стояло тонкое чиликанье: точили стены сверчки.
Аркадий Петрович привалился на землю, былое отупение прошло, теперь качал его страх безудержный и не поддающийся воле, страх, трясущий все тело мышиной дрожью, рвущий мысли в голове, страх, близкий к тому, чтобы кататься по земле и рвать на себе волосы.
Он пробовал закурить, но папиросы вываливались из его пальцев.
Тогда, согнувшись так, что голова его оказалась между коленей, зажав руками затылок, стал он стонать монотонно, долгим и слабым криком:
— А-а-а…
Не было ни риги, ни стен, ни прорех в крыше с клочками ночного неба, был только этот крик, стенающий и негромкий:
— А-а-а…
Будто тяжелая штора, не пропускающая света, задернула от него все, что было живо и одушевленно; не то, чтобы ему обнаженно представился смертный час, таких мыслей не было, а вот этот только крик, полный тоски, последней и животной:
— А-а-а…
Он поднял голову — была в его теле слабость, и деревянными стали ноги, голова и руки. Привыкшими к темноте глазами Аркадий Петрович осмотрелся.
На дровнях, где давеча сидел Королев, сморкался кровью и, подминая под себя солому, ворочался человек.
— Ты это кто? — спросил Аркадий Петрович в испуге.
Человек шелохнулся, а глаз его в темноте не было видно.
Сказал по-злобному шипящим голосом:
— Кто ни кто, а живой человек.
— Вас тоже… арестовали?
— Должно, что так. Мало-мало заарестовали, но и в морду раза два, черти, барьи лакеи! Вот тебе и на, бабушка Марья, не жисть, а малина-ягода. Ваше обличье, барин, что-то мне больно приметно, не вас ли я тут ввечеру стерег?
Вглядевшись, Аркадий Петрович признал в человеке, сидящем на дровнях, красноармейца Ковалева, того, кто, поставив винтовку в угол, бил в морду мужика Королева из Ганькина села. На нем теперь не было фуражки, ворот рубашки его, шитой красно-синими стежками, был изодран, шинель сползла с его куриных плеч, волосы налипли на узкий низкий лоб. Был он зол и прибит, чесал подбородок, часто сплевывал, ложился в дровнях и тотчас же порывисто приподнимался.
— Я солдат Красной Армии Российской Советской республики, а вы-то, барин, как сызнова встряли? Ай и вы с федеративной стороны? Дела, господи! В прежнее время каждого человека видать: тот барином идет, цепочку по борту распускает, индюком зоб топорщит, тот рабочий, с соткой в кармане, а нонче все тормаком наперед, разбери, который человек трудящий, который паразит. Э-эх!
— А ты чего, — сказал Аркадий Петрович с острой, жалящей злобой, — ты чего, мерзавец, зубы теперь скалишь? Довольно мы от вас всякого хамства перенесли, на суку вас, сволочей, всех перевешать надо. И перевешают, перевешают, будь спокоен, голубчик! Я у тебя еще и скамейку из-под ног выдерну, качайся себе на ветру, галкам на съедение. Эх ты, темнота народная! Жидам пошел служить, хомут себе на шею пейсатый надел. Вам палка нужна, всех отдубасить до смерти надо — ты думаешь, что? Ведь это ты меня по миру пустил, из квартиры на мороз выгнал, а я горбом своим к старости копейку берег. Я горбом, а ты… Чтоб тебя вместе со всем пролетариатом твоим к черту на рога! Уви-дишь…
Злобиться, гневаться было легче, нежели молчать. Аркадий Петрович встал с копенки, расстегнул верхние пуговицы пыльника, оттянул воротничок, злоба в нем шипела веселая, торжествующая:
— Эх ты! Эк-ка т-ты! Покажем мы вам, увидишь земной рай!
И прошелся от стены к стене, ступая твердо, нагнулся, поднял кол и бросил его в угол.
— Т-ты!
Ковалев спустил ноги с дровней, он был теперь без сапог, в одних запревших портянках. Спустил ноги, потопал ими по земле, сказал с недужной жалобой в голосе: