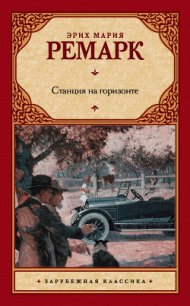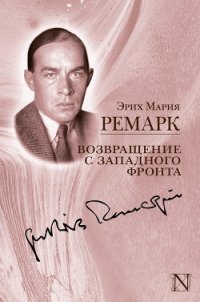На Западном фронте без перемен - Ремарк Эрих Мария (книги полные версии бесплатно без регистрации TXT) 📗
Тогда он оставил нас в покое. Правда, он все еще называл нас сукиными детьми. Но в его ругани слышалось уважение.
Были среди унтеров и порядочные люди, которые вели себя благоразумнее; их было немало, они даже составляли большинство. Но все они прежде всего хотели как можно дольше удержаться на своем тепленьком местечке в тылу, а на это мог рассчитывать только тот, кто был строг с новобранцами.
Поэтому мы испытали на себе, пожалуй, все возможные виды казарменной муштры, и нередко нам хотелось выть от ярости. Некоторые из нас подорвали свое здоровье, а Вольф умер от воспаления легких. Но мы сочли бы себя достойными осмеяния, если бы сдались. Мы стали черствыми, недоверчивыми, безжалостными, мстительными, грубыми, — и хорошо, что стали такими: именно этих качеств нам и не хватало. Если бы нас послали в окопы, не дав нам пройти эту закалку, большинство из нас наверно сошло бы с ума. А так мы оказались подготовленными к тому, что нас ожидало.
Мы не дали себя сломить, мы приспособились; в этом нам помогли наши двадцать лет, из-за которых многое другое было для нас так трудно. Но самое главное это то, что в нас проснулось сильное, всегда готовое претвориться в действие чувство взаимной спаянности; и впоследствии, когда мы попали на фронт; оно переросло в единственно хорошее, что породила война, — в товарищество!
Я сижу у кровати Кеммериха. Он все больше сдает. Вокруг нас страшная суматоха. Пришел санитарный поезд, и в палатах отбирают раненых, которые могут выдержать эвакуацию. У кровати Кеммериха врач не останавливается, он даже не смотрит на него.
— В следующий раз, Франц, — говорю я.
Опираясь на локти, он приподнимается над подушками:
— Мне ампутировали ногу.
Значит, он все-таки узнал об этом. Я киваю головой и говорю:
— Будь доволен, что отделался только этим.
Он молчит.
Я заговариваю снова:
— Тебе могли бы отнять обе ноги, Франц. Вот Вегелер потерял правую руку. Это куда хуже. И потом, ты ведь поедешь домой.
Он смотрит на меня:
— Ты думаешь?
— Конечно.
Он спрашивает еще раз:
— Ты думаешь?
— Это точно Франц. Только сначала тебе надо оправиться после операции.
Он дает мне знак подвинуться поближе. Я наклоняюсь над ним, и он шепчет:
— Я не верю в это.
— Не говори глупостей, Франц; через несколько дней ты сам увидишь. Ну что тут такого особенного? Ну, отняли ногу. Здесь еще и не такое из кусочков сшивают.
Он поднимает руку:
— А вот посмотри-ка сюда; видишь, какие пальцы?
— Это от операции. Лопай как следует, и все будет хорошо. Кормят здесь прилично?
Он показывает миску: она почти полна. Мне становится тревожно:
— Франц, тебе надо кушать. Это — самое главное. Ведь с едой здесь как будто хорошо.
Он не хочет меня слушать. Помолчав, он говорит с расстановкой:
— Когда-то я хотел стать лесничим.
— Это ты еще успеешь сделать, — утешаю я. — Сейчас придумали такие замечательные протезы, с ними ты и не заметишь, что у тебя не все в порядке. Их соединяют с мускулами. С протезом для руки можно, например, двигать пальцами и работать, даже писать. А кроме того, сейчас все время изобретают что-нибудь новое.
Некоторое время он лежит неподвижно. Потом говорит:
— Можешь взять мои ботинки. Отдай их Мюллеру.
Я киваю головой и соображаю, что бы ему такое сказать, как бы его приободрить. Его губы стерты с лица, рот стал больше, зубы резко выделяются, как будто они из мела. Его тело тает, лоб становится круче, скулы выпячиваются. Скелет постепенно выступает наружу. Глаза уже начали западать. Через несколько часов все будет кончено.
Кеммерих не первый умирающий, которого я вижу; но тут дело другое: ведь мы с ним вместе росли. Я списывал у него сочинения. В школе он обычно носил коричневый костюм с поясом, до блеска вытертый на локтях. Только он один во всем классе умел крутить «солнце» на турнике. При этом его волосы развевались, как шелк, и падали ему на лицо. Канторек гордился им. А вот сигарет Кеммерих не выносил. Кожа у него была белаябелая, он чем-то напоминал девочку.
Я смотрю на свои сапоги. Они огромные и неуклюжие, штаны заправлены в голенища; когда стоишь в этих широченных трубах, выглядишь толстым и сильным. Но когда мы идем мыться и раздеваемся, наши бедра и плечи вдруг снова становятся узкими. Тогда мы уже не солдаты, а почти мальчики, никто не поверил бы, что мы можем таскать на себе тяжелые ранцы. Странно глядеть на нас, когда мы голые, — мы тогда не на службе, да и чувствуем себя штатскими.
Раздевшись, Франц Кеммерих становился маленьким и тоненьким, как ребенок. И вот он лежит передо мной, — как же так? Надо бы провести мимо этой койки всех, кто живет на белом свете, и сказать: это Франц Кеммерих, ему девятнадцать с половиной лет, он не хочет умирать. Не дайте ему умереть!
Мысли мешаются у меня в голове. От этого воздуха, насыщенного карболкой и гниением, в легких скапливается мокрота, это какое-то тягучее, удушливое месиво.
Наступают сумерки. Лицо Кеммериха блекнет, оно выделяется на фоне подушек, такое бледное, что кажется прозрачным. Губы тихо шевелятся. Я склоняюсь над ним. Он шепчет:
— Если мои часы найдутся, пошлите их домой.
Я не пытаюсь возражать. Теперь это уже бесполезно. Его не убедишь. Мне страшно становится при мысли о том, что я ничем не могу помочь. Этот лоб с провалившимися висками, этот рот, похожий скорее на оскал черепа, этот заострившийся нос! И плачущая толстая женщина там, в нашем городе, которой мне надо написать. Ах, если бы это письмо было уже отослано!
По палатам ходят санитары с ведрами и склянками.
Один из них подходит к нам, испытующе смотрит на Кеммериха и снова удаляется. Видно, что он ждет, — наверно, ему нужна койка.
Я придвигаюсь поближе к Францу и начинаю говорить, как будто это может его спасти:
— Послушай, Франц, может быть, ты попадешь в санаторий в Клостерберге, где кругом виллы. Тогда ты будешь смотреть из окна на поля, а вдалеке, на горизонте, увидишь те два дерева. Сейчас самая чудесная пора, хлеба поспевают, по вечерам поля переливаются под солнцем, как перламутр. А тополевая аллея у ручья, где мы колюшек ловили! Ты снова заведешь себе аквариум и будешь разводить рыб, в город будешь ходить, ни у кого не отпрашиваясь, и даже сможешь играть на рояле, если захочешь.
Я наклоняюсь к его лицу, над которым сгустились тени. Он еще дышит, тихо-тихо. Его лицо влажно, он плачет. Ну и наделал я дел с моими глупыми разговорами!
— Не надо, Франц, — я обнимаю его за плечи и прижимаюсь лицом к его лицу. — Может, поспишь немного?
Он не отвечает. По его щекам текут слезы. Мне хотелось бы их утереть, но мой носовой платок слишком грязен.
Проходит час. Я сижу возле него и напряженно слежу за выражением его лица, — быть может, он захочет еще что-нибудь сказать. Ах, если бы он открыл рот и закричал! Но он только плачет, отвернувшись к стене. Он не говорит о матери, братьях или сестрах, он вообще ничего не говорит, это для него, как видно, уже позади; теперь он остался наедине со своей коротенькой, девятнадцатилетней жизнью и плачет, потому что она уходит от него.
Никогда я больше не видел, чтобы кто-нибудь прощался с жизнью так трудно, с таким безудержным отчаяньем, хотя и смерть Тьядена тоже была тяжелым зрелищем: этот здоровый, как бык, парень во весь голос звал свою мать и с выкаченными глазами, в смятении, угрожал врачу штыком, не подпуская его к своей койке, пока наконец не упал как подкошенный.
Вдруг Кеммерих издает стон и начинает хрипеть.
Я вскакиваю, выбегаю, задевая за койки, из палаты и спрашиваю:
— Где врач? Где врач? Увидев человека в белом халате, я хватаю его за руку и не отпускаю:
— Идите скорей, а то Франц Кеммерих умрет.
Он вырывает руку и спрашивает стоящего рядом с нами санитара:
— Это еще что такое?
Тот докладывает:
— Двадцать шестая койка, ампутация ноги выше колена.
Врач раздраженно кричит: