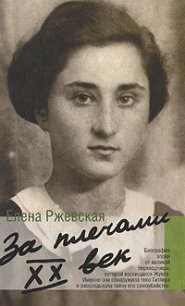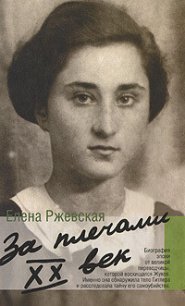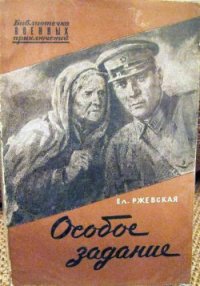За плечами XX век - Ржевская Елена Моисеевна (книги полные версии бесплатно без регистрации TXT) 📗
На газоне располагается цыганский табор. Звучит горн, и под ликующую барабанную дробь я со своими маленькими уличными сверстниками увязываюсь в хвост за пионерским отрядом, прошагавшим весь бульвар насквозь – от памятника Тимирязеву до Страстной площади.
Отряд уходит куда-то дальше, в неведомое, заманчивое… Мне «дальше» запрещено Галей – только от памятника Тимирязеву до памятника Пушкину и назад. Но и этого хватает. Возле Пушкина цыганки метут юбками землю, цепляют прохожих, нашептывают гаданье. Чернокожие мальчишки в пылающих галстуках на черной шее, приехавшие на пионерский слет, покупают у лоточника сласти. А немецкие мальчишки стоят в своих коротких штанах на постаменте памятника и что-то выкрикивают, прижимая к плечу кулак в священной клятве: «Рот фронт!»
За несколько копеек можно в пять минут получить у искусного мастера свой портрет – вырезанный из черной бумаги силуэт в профиль. Столько же стоит взглянуть в подзорную трубу на звезды. Стоя возле Пушкина, легко следить за ползущей над зданием «Известий» огненной лентой международных телеграмм – из Китая, Бразилии, Чили… – отсвет мировой революции, ее взлета и поражений.
И никто на нашем бульваре не помышлял вывалиться из того паровоза. Ни сам каменный Тимирязев в литой мантии. Ни китаянки, покачивающиеся возле Тимирязева на своих крохотных ножках с переломанными пальцами, в длинных шароварах, с висевшей у каждой на животе плетеной кошелкой в ярких, замысловатых игрушках: цветным мячиком, набитым опилками, отлетавшим из-под ладони на тонкой резинке, вздетой на палец; оранжево-красными бумажными веерами, что складывались и раскладывались в немыслимой красоты узоры, и резиновым уродцем – когда в него вдували ртом воздух, пронзительно пищавшим «уйди-уйди!».
Не помышляли ни торговки подсолнухом, ни продавец воздушных шаров, ни мороженщик. Ни чумазый, в лохмотьях беспризорник, возникавший в вечерний час, когда совслужащие возвращались бульваром с работы, со своим надрывным, задушевным:
Набрав кое-какие крохи подаяния, нырял в остывающий котел с асфальтовым варевом и дулся в карты.
И уж само собой крепко держались на романтическом паровозе активисты МОПРа. Встряхивая свои большие кружки, бренчавшие деньгами, пожертвованными на братскую помощь узникам капитала, они выходили наперерез вечернему потоку служащих. И каждому, опустившему в кружку монету, крепили на грудь простой булавкой бумажный значок «МОПР».
Когда поток редел, иссякал, юные активисты обстоятельно обходили скамейки с рассевшимися подышать лояльными гражданами. И боковые, почти безлюдные аллейки, где затерянная здесь старая кассирша из нашей квартиры имела обыкновение перед сном прогуливаться. Побренчав настойчиво перед ней кружкой, они могли дождаться, что и она кончиками высовывающихся из срезанных перчаток пальцев, утопив их по самые кольца в сафьяновой сумочке, извлечет заветный пятак, припасенный на пирожное, и бросит в кружку. И потом идет в своей лилово-блеклой пелерине, изглоданной молью, вытрепанной дождями, ветром и неуютным временем, с приколотым ей на грудь бумажным значком МОПРа, все время расправляя его, потому что бумажка норовит свернуться трубочкой поближе к булавке.
В доме двадцать по Тверскому бульвару рухнула супружеская жизнь Жени и ее мужа. Она уходила – я уже писала об этом – к другому. Тот, другой, невзрачный, как говорили, на вид и вообще – не блещущий. Некоторые, например мой папа, даже уточняли – серый. Однако такого высокого ранга, до какого никогда не подняться ее прежнему мужу, симпатичному и образованному. Новый – увлек ее своей безудержной влюбленностью, настойчивыми букетами роз, своим мужским, деловым масштабом.
Вероятно, и прежний муж Жени прибивался в какому-то новому пристанищу, и расставались дружески, беззаботно распродавая свое имущество. Папа купил у Жени два стеллажа для книг, портрет Ленина углем на холсте и заграничный снаряд для утренней зарядки.
Стеллажи пришлись особенно кстати.
На Тверском бульваре – книжный базар!
Наскоро сколоченные яркие ларьки с вывезенными со складов приложениями к «Ниве», с дешевыми изданиями классиков всех времен и народов.
Букинистические лотки со всякой книжной всячиной. В сравнении с ними померкли бы те, у Сены, что составляют вечную достопримечательность Парижа.
И на газоне, потеснив цыган, тоже развалы уникальных книг. Пригнись, присядь, поколотись на траве. Спиноза, Молоховец, Аввакум. Прижизненное лейпцигское издание Гете. Лонгфелло в подлиннике. Чего только хочешь. И все баснословно дешево.
Гуляющая толпа валит под веселыми транспарантами, натянутыми поперек бульвара: «Первый книжный базар», «Привет Волховстрою!», «Удешевленная распродажа книг», «Мы строим первенец ГОЭЛРО», «Да здравствует труд и разум!»
С утра до темноты в базарное воскресенье я топчусь возле папы у книжных ларьков, и лотков, и развалов. Каких только книг охапками мы не перетаскали к себе домой.
Большая часть их на полу в папиной комнате – не разобраны, не встали на полки.
Я сижу на кипе книг, уткнувшись в «Роман моей жизни» Лили Браун.
Слышно, как поет, бренча на рояле, забежавший на часок папин младший брат Вуля:
С той поры мне редко попадаются неразрезанные страницы – это какая-то особая причастность к бытию книги: тебе первому раскроется она.
При помощи кухонного ножа – благо Галя ушла на спевку в домоуправление – кое-как управляюсь.
«…пускай пожар кругом!» – и еще раз: – «пожар кругом!» – и крышка рояля хлопнула. Бегом пронесся мимо по коридору Вуля. И всхлип отворяемой раздерганной входной двери, и грохот ее, пущенной с силой назад, захлопнувшейся, и отзвук защелкнувшегося замка, медленно угасающий.
Я вдруг почувствовала: что-то произошло странное. Я с опаской приоткрыла дверь в коридор, уходящий далеко вглубь, к входной двери, а в другую сторону – к кухне.
И в ту же секунду настигло до того ни разу не изведанное: «никого нет». Во всей квартире. Мне стало страшно. Громадины пустого коридора. И того, что притаилось за закрытыми дверями комнат. И чего-то еще, неизъяснимого словами и сейчас. Тогда впервые испытанного и надолго, может, до сих пор, не преодоленного страха одиночества в большой квартире.
Этот страх все рос, судорожно завладевая мной. Сотрясаясь рыданием, я улеглась, скорчившись на уголке холодного кожаного черного папиного дивана, уткнувшись лицом в его холодную спинку. Что это было? Неосознанный страх необъятного грядущего вечного одиночества в ином, неземном измерении? Предчувствие рока, неминуемо простиравшегося над всеми, кто близок?
Взрослые были на работе. Брат в школе. Зубковы уехали всей семьей в Монголию, и их комната теперь всегда заперта. А ихняя Дора вернулась в деревню и уже прислала Гале письмо, что выходит замуж за вдовца с двумя детьми. Так что ее судьба уладилась. Люся, племянница Виктории Георгиевны, увязалась за Галей на спевку, вся в поисках своей судьбы. Но Галя-то – под крылом ее забот и властности прошли четыре года моей жизни, – как она-то оставила меня одну?! Об этом с особой болью рыдала. Может, в предчувствии, что она скоро покинет меня. И в самом деле, вот-вот, на рубеже первой пятилетки, она найдет себе работу и оставит нас.
Гордая, независимая, скрытная в своей жажде женского счастья, ничуть не меньшей, чем у тех двоих, Галя обретет наконец его и одержимо, бездетно, непреклонно понесет свою любовь вплоть до последнего часа, пока не растерзает ее паровоз.