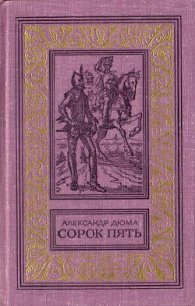Сорок дней, сорок ночей (Повесть) - Никаноркин Анатолий Игнатьевич (бесплатные версии книг txt) 📗
— Песни он, точно, любил, — продолжает Рыжий, — голоса, правда, не было, горлом брал — молод, двадцать один годок. Его любимая… — Рыжий хрипловато затягивает:
…Голову парню снесло. Перед этим его к награде представили. Приползли из политотдела двое вручать ему Звездочку, и, нужно ж, мина ротная разорвалась у капитана прямо на каске. У политотдельцев — ни царапины. Три дня брали эту проклятую высотку. Немец ух как держался, а нам — кровь из носа — с косы его нужно было выбить; оттуда дорога прямая на Тамань. Потом нам «катюш» подбросили — как врезали!..
После окопов мы еще раз «высаживаемся» — штурмуем кручи. Стреляем из автоматов по мишени, бросаем гранаты. Так проходит день. Когда расплывчатое солнце начинает садиться за грядой высоких сопок, мы вместе с батальоном возвращаемся назад. Шагаем с песнями, со свистом:
ГЛАВА III
Над лагерем низко пролетает «кукурузник». Видно летчика, машет рукой. Это Танюшка привет посылает. В нескольких километрах от нас стоит женский авиаполк. Ребята его называют «Танькин полк», потому что у них командир и комиссар Татьяны, и еще девчат пятнадцать Тань. Вечерами наши морячки тайком «пикируют» к своим соседкам, правда, почти безрезультатно: насчет свиданий у авиаторов очень строго.
Медики — народ скромный. Какие уж там свидания? Если ходим в их сторону, то разве только за виноградом.
За холмами тянутся желто-бурые заросли медовой шаслы. Солдаты тащат переспелые ягоды ведрами, в плащ-палатках, рогожах.
Я собираюсь в батальон Чайки — надо провести беседу о туляремии. Разносчики этого заболевания — грызуны. Раньше я никогда не представлял, что их может быть такое скопище. Маленькие, серые твари с белыми полосками на спине кишат всюду. Пробовали ставить ловушки, травили ядами, обкапывали землянки и палатки — мало толку. Проникают куда угодно. Прогрызают вещмешки, портят сапоги, объедают погоны.
Виноват голод. Вокруг запущенные, голые, бесплодные поля — мыши рыщут в поисках пищи. За армией бегут.
Из медиков Колька персонально отвечает за борьбу с грызунами. Но что он, бог? Злится. А мы подначиваем. Савелий кричит:
— Горелов, есть новое средство против мышей!..
Колька сомневается — подвох, но все-таки спрашивает:
— Без трепа?
— Стопроцентное…
— Так какого ж ты хрена молчал?
— Поймай мышь и в глотку ей керосина…
А вот Сашка Басс-Тихий, наш повар, вчера в обед действительно отличился. Я дежурил и пошел на кухню снять пробу. Ребята возвращались с похода. Слышно: «Цыганочка, топай-топай…» Пухлощекий Сашка стоит с черпаком у котла, снял крышку.
— Товарищ военврач!.. Один момент.
И вдруг, откуда ни возьмись, огромная крыса… Шлеп на трубу, завизжала: труба раскаленная.
Я ахнул… крыса летела прямо в котел. Но Сашка изогнулся, подпрыгнул, как мячик, и на лету подхватил ее черпаком.
— Вот проклятая, чуть сердце не остановилось, — выдохнул он.
— Тебя, Басс, наградить нужно.
— Значок «Отличник повар» у меня есть.
— За ловкость наградить.
— Только вы никому не рассказывайте. А то могут подумать, что крысу ту я из борща выловил…
Даю слово молчать. Но Сашка не вытерпел, сам рассказал. К вечеру весь полк знал о его «подвиге».
…Налицо уже все признаки, что скоро будем высаживаться. Привезли — я сам проверил — теплые вещи. Срочно сдаем зачеты по листовке «Советы десантнику». Инспектора за последние дни просто осточертели. О них ходят злые анекдоты.
Была среди ночи тревога учебная. Приехал генерал из Главной ставки — проверял, как вооружен, обмундирован полк.
Тогда я впервые мельком увидел Батю — Нефедова. Внушительный. Шапка с крабом золотым. Окает баском: «Добро́, добро́». Ординарец Бати старшина Алексашкин юркий, занятный (к нам частенько наведывался) — рассказывает, что Батя последнее время с комбатами уезжает куда-то на целый день. А ночами в штабной палатке свет не гаснет до утра. Над картами головы склонились. Комбаты с Батей разрабатывают предстоящую операцию… Что? Как? Где точно? Пока это тайна.
У нас тоже есть карта. Немецкая, трофейная. Подробная — каждый бугорок, каждая дорожка, не говоря уже о населенных пунктах Таманского и Крымского полуостровов, — все обозначено.
Странно, когда читаешь на чужом языке названия наших поселков, станиц, городов.
— И наше место, Красный партизан, есть… Паразиты!
— А вот Керчь… Камыш-Бурун… Минными полями все позагородили.
— Какой он, этот Крым? — мечтательно говорит Савелий. — Давно хотел побывать на курорте…
— А я был в Ялте, — хвастает Алексашкин, сияя безбровым лицом. — Из Одессы турне на теплоходе «Абхазия»! Подошли к вечеру — блеск! Горы синие, пальмы на набережной… Ресторан-поплавок. Все в огнях! И джазик… Соло на саксофоне, вальсик. «Та-ра-да-ра… Та-ра-да-ра…» — Алексашкин подражает саксофону — сам музыкант, играл в духовом оркестре. — В общем — рай! Только гроши нужны.
— Ну, а как насчет курортниц? Небось, капельдудкин, романы закручивал? — допытывается Савелий.
— А ты как думал…
Начинается рассказ о встречах с потрясающими женщинами. О прибое, лунных дорожках… О мускатных винах.
— Зима там бывает?
— Розы на кустах круглый год. Цветут и благоухают!
Наверное, многое выдумывает Алексашкин, но его слушают. И я слушаю и пишу маме письмо на Урал. Карандашом на листке, выдранном из непонятно как сюда попавшей конторской книги.
«Дорогая мама! Пишу тебе из новой части, гвардейской. Ребята в санроте хорошие; за несколько дней, что я здесь, все стали родными. Сейчас мы на пороге больших событий. Кажется, пришло время попробовать краснобоких яблочек».
Последние два слова вывожу большими буквами. (Это я так зашифровал Крым).
К нам в городок на базары часто наезжали чернолицые, в фесках торговцы из Крыма. Они привозили яблоки, продолговатые, с красными щечками. Сладкие. Привозили сухой инжир, нанизанный на нитки. Мама покупала инжир про запас: если зимой кто простудится — варила ягоды с молоком.
Крым для меня — синяя сказочная страна! Вспоминаю фотографии из домашнего альбома. Нюся, мамина сестра, в Симеизе забралась на скалы, которые выдаются в море и чудно́ называются: Дива и Монах… А море искристо-веселое, жмурое, как будто в нем растопили солнце.
И еще на мамином столике, перед зеркалом, стояла коробочка из крымских мелких ракушек с высушенным крабом на крышке. И большая раковина, закрученная, как улитка. К уху приставишь — море шумит.
Пишу дальше: «Послал письмо в Донбасс тете Нюсе и бабушке. Ответа пока нет. Но вы, наверно, скоро сами будете там… Узнайте обязательно, где Нина, что с ней?»
Голос Алексашкина прерывает мои мысли.
— Доктор, может, вы, как новый человек, на Батю повлияете. Ничего не ест.
У Нефедова не так давно была желтуха.
Ему на сахар нужно нажимать, — продолжает Алексашкин.
— Ты, профессор кислых щей! Глюкозум сеу декстрозум, — щеголяет латынью Савелий. — А чего сам на него не повлияешь?
— В том-то и дело, что характер его знаю… Если чего надумает, не удержишь… Какой он, я еще в сорок первом узнал, в Одессе. Лекции он нам читал.
— Что ты загибаешь! — возмущается Мишка Рыжий. — В Севастополе он комиссаром был на крейсере «Коминтерн».
— В начале войны, точно, был на крейсере, а осенью сорок первого перевели в политуправление Чефе… Загибаешь! Слушай лучше…
Заявляется он в Новороссийскую дивизию. В Одессу… Лекции нам читать про политику. Ну, а мы — как раз в наступление… Концерт утром румынам дали — как шуганули их!.. А к ночи потеряли связь с командованием — разбрелась братва. Бродим, по колени ноги оттопали… Тут и повстречали Батю. В черной моряцкой форме. Он, значит, свой вещмешок с лекциями оставил в штабе, в Одессе, — и с нами в бой… Я ему свою плащ-палатку дал, а то он выделялся среди пехтуры. Связным меня назначил, задание: собрать всех до кучи.