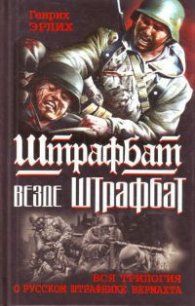Добровольцем в штрафбат. Бесова душа - Шишкин Евгений Васильевич (версия книг .TXT) 📗
— Тебя, Завьялов, кто дома ждет? — мягко спросил он. — Кто родные твои, близкие?
— Зачем это вам? — недоверчиво покосился на него Федор.
— Война кончилась. О доме рано или поздно нам с тобой подумать придется. Родные-то, наверно, беспокоятся. Ждут.
— Пускай ждут, — тихо бросил Федор и отвернул голову от врача.
Федору не хотелось говорить с Малышевым. Еще меньше хотелось расспросов о доме и каких-то бесплодных утешений и наставлений. Ко всякому, кто пробовал с ним заговорить, Федор испытывал протест. Он стыдился и молча раздражался почти на всех: на медсестер, на врачей, на выздоравливающих фронтовиков из других палат, которые иногда сюда заходили. Относительно спокойно и равноправно он чувствовал себя только среди своих — возле этих немых горемык Ежова и Зеленина. Да еще покойный Куликов тоже считался ему своим. Все остальные — чужаки. Он их не любил. Он не любил и капитана Малышева. Эта нелюбовь была беспомощна, оттого Федор злился на себя и на окружающих еще сильнее, еще тверже не подпускал их к себе. Хотя при чем тут все окружающие?! При чем тут военврач Малышев?! Нет за ними вины в том, что он, Федор Завьялов, оказался слишком живуч, неистребим и жаден до существования! Нет их умысла в том, что обломок бетонной плиты в арке берлинского дома рухнул ему на ноги, а не на грудь, чтоб окончательно раздавить его, лежащего с простреленными руками! Нет их участия и в том, что Вася Ломов смог быстро вытащить его из-под завала, а санинструктор оказался опытен и проворен и медсанбатовская машина, находившаяся в ближнем переулке, скоро отвезла его на операционный стол. В бессознании, но еще живого!
В медсанбате Федору отпилили обе ноги выше колен. На том же операционном столе чуть позже по локоть откромсали левую, безнадежно раздробленную пулеметной очередью руку. Правую, последнюю конечность, тоже поврежденную пулей, ампутировал хирург Малышев, уже здесь, в эвакогоспитале: по ней распространялась гангрена.
«Четвертовали», — подумал Малышев, когда отнимал глянцевито-бурую, распухшую руку, на которой возле пулевого ранения едва заметно проступала синенькими пятнышками татуировка. То ли восход, то ли закат солнца.
— Тебе, Завьялов, надо бы письмо на родину написать. Ты продиктуй. Медсестры запишут. Я и сам такое письмо готов написать, объяснить все. Мне твое согласие нужно. Ну как, поручаешь? — спросил Малышев, уже не в первый раз замечая беспощадное несоответствие. На подушке — голова взрослого человека с маской ожесточения на лице, покрытом темной щетиной; под одеялом — короткое, будто детское, несоразмерно малое тело того же человека.
— Не надо никаких писем, — твердым шепотом ответил Федор.
Осторожно засунув руку в карман халата, Малышев поглубже утопил конверт, чтобы Федор случайно не заметил его, не воспалился подозрениями и излишней тревогой. Ничего за спиной Федора врач делать не собирался, объяснений без его ведома к нему на родину не пошлет, но и отдать принесенное письмо не отдаст…
«Эх, милая девушка! Он даже от меня глаза прячет. Слушать не хочет. Каково ему тебе показаться! Даже письмо твое ему сейчас — больнее ножа…» — подумал Малышев, проникаясь все большей неловкостью от затянувшегося, с длинными паузами, разговора.
— Не горячись, Завьялов. Другой судьбы уже не избрать. — Малышев поднялся со стула, поглядел в окно на старый вяз. Ему хотелось сейчас многое сказать. Сказать о том, что он, Завьялов, мужчина и солдат, — солдат, который с честью воевал, который отмечен наградами, который наверняка повидал на фронте всякого: оторванные снарядами головы солдат, невинную кровь детей, женщин, стариков — и должен все понимать, крепиться и жить, стиснув зубы. Но этой наступательной речи Малышев не произнес. Все сказанное вышло бы банальным пустозвонством и только бы подтвердило русскую поговорку: «Сытый голодного не разумеет».
«Надо будет сестрам сказать, чтобы они с ним о доме поговорили. Кто-нибудь из стареньких, по-матерински», — наметил Малышев и вышел из палаты, ощущая под рукой в кармане напрасно приносимый конверт.
10
Врач ушел. Федор еще долго и беспричинно злился на него. Еще больше — на себя. Переживал стыд за свое уродство. Вернее, это был даже не стыд, а какое-то новое, глубокое, подавляющее чувство. Это чувство было столь же новым и раздражающим, как и вся нависшая действительность — теперь, когда круто и уже навечно изменилась его жизнь.
Давно — казалось, тыщу лет назад — отзвенела юность, подарившая любовь и козни ревности. Давненько — казалось, уже так давненько — истек срок гнусного, но по-своему «обумляющего» лагерного заключения. Даже войну, которая вроде бы еще не остыла и грохотала эхом, резко отсекло от настоящего пулеметной очередью и бетонным куском перекрытия немецкой арки.
Пройдя через операции, Федор словно бы заново родился. На этот раз непоправимым калекой, и теперь для него отдельная, ничтожно узенькая тропинка по заново обретенной жизни, — по жизни, которую не поймет даже тот, у кого есть хотя бы одна рука и несколько пальцев на ней.
Поддерживая себя левой культей, которая была чуть длиннее правой, Федор вытягивал шею, зубами хватал край алюминиевой кружки, которая стояла на табуретке возле кровати, и цедил в себя воду, обливая подбородок и грудь. В этом почти и состояла вся теперешняя свобода его движений. Ему даже пока было тяжело сидеть, и телу постоянно определялось лежать на больничной кровати. Словно в невидимых кандалах. Вся остальная жизнеспособность перепадала мозгу. Мозг оставался свободен и, принимая на себя всю деятельность Федорова существа, работал обостренно и много. Мозг поднимал воспоминания — случайные и обрывочные, продолжительные и захватывающие. Воспоминания распаляли чувства. Федор то любил страстной любовью, то ненавидел с немереной лютостью, то истязал себя душевной мукой, то проникался тишайшим смирением. Чувства изматывали его до боли в сердце, до ледяной испарины, до сухости в горле, до слез. Мозг уставал, гасли воспоминания, меркли чувства. Федор забывался во сне. Но спал он некрепко. Словно зыбкий туман окутывал его и на время замутнял действительность. Нормальный ночной сон у него сбился, как бывает у младенцев, которые «перепутают» день с ночью.
Нынешнюю ночь Федор тоже напропалую бессонно прохлопал веками.
Лунный свет падал на широкий белый подоконник, серебрился на стеклянных ребрах высокого графина с водой. Вода в нем казалась прозрачным льдом. За окном — безветрие. Неподвижная, переломанная через подоконник тень старого вяза лежала на полу и немного на стене, частично ограничивала свет из окна. От этого лунного ворожейного света и от этой тени дерева ночь в палате казалась еще тише. Лишь изредка тишину прерывал сонный стон мичмана Ежова или дыхание Зеленина, споткнувшееся редким шумным вздохом. И опять — тишина. Все мирно, покойно. И так безысходно!
Сейчас Федор думал о тех, кого повстречал на войне. Сколько ж много их было! В потертых шинелях, в заляпанных грязью сапогах, в выгоревших гимнастерках, в госпитальных бинтах. Разрозненные воспоминания о них складывались в одно беспрерывное видение, сопровождаемое то грохотом артиллерийской канонады, то строчкой пулемета, то диким ором и матюгами идущих в атаку. Все эти встреченные на фронте люди появлялись перед глазами Федора в том положении и в той позе, в которой ярче всего их воспринял его мозг. Они шли, бежали, рыли окопы, курили, пили водку, падали от осколков. Комбат Подрельский сидел, развалясь на табуретке, пьяный, икающий, но тут же вставал на НП, суровый и «глыбистый», и подносил к глазам бинокль. Лешка Кротов ушивал штанину, а потом косолапо, но юрко бросался к люку танка, чтобы бросить бутылку с зажигательной смесью. Замполит Яков Ильич весело щелкал ремнями портупеи, постукивал себе пальцем в лоб, а после зазывал криком в атаку, весь до нитки сырой, выбравшийся из ледяного Днепра. Земеля Захар раскладывал костер, полз к Селезневке за «языком», лежал с простреленной головой на чистом снегу. Ездовой Палыч, с торчавшими из-под бинтов красными ушами, Сидел на койке, а над ним умирал со смеху Христофор…