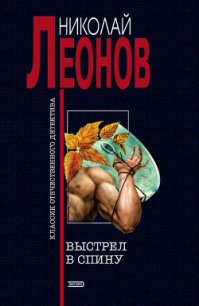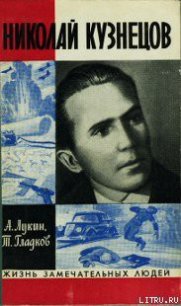Жили два друга - Семенихин Геннадий Александрович (библиотека книг .TXT) 📗
– «И еще пишу, дорогой Иосиф Виссарионович, – бубнила старуха, – что есть я тот маленький гражданин Советского Союза, на котором вся земля наша держится.
Как хочешь, так и понимай, а нет – пришли своего доверенного человека на наш завод «Красные баррикады», и там ему расскажут, что из себя представляла наша рабочая семья и сколько она сделала для родной нашей Советской власти. Хочу я выплакать тебе горе свое материнское. Ты, я думаю, понять его хорошо должен. Двух сынов своих и мужа потеряла я в годы войны. Они честно сложили головы в боях с фашистами. Любая вдова тебе скажет, что как бы ни было ей тяжело, а где-то в самом, самом сердце понимает она, что геройской гибелью за Отечество можно гордиться. Но что я скажу тебе о третьем сыне, самом меньшом и самом любимом?
Он под Балатоном заменил в бою убитого командира, роту повел на врага, хотя был всего-навсего рядовым солдатом. Об этом даже в газете «Красная звезда» печатано было. Орден Ленина сыну дали в награду, выше которого у нас нет, да и быть не может. Сколько слез я повыплакала, ожидая его домой – последнюю надежду в своей вдовьей жизни. Даже в церковь сходила разок, хотя в бога не верую. Каждый может попять, какая это радость – узнать, что из четырех солдат один все-таки возвращается к тебе с поля боя.
Да не суждено этой радости было сбыться. Вез сынок мой Андрюша домой солдатский вещевой мешок с харчишками да в черном чехле белый аккордеон из какой-то заморской Европы, его на смотре самодеятельности наградили. Вот и случилось все из-за этого проклятого аккордеона. Под самое утро он шел. Кварталах в трех от родного дома остановился у колонки воды попить. Положил вещевой мешок и аккордеон на землю, расстегнул ворот гимнастерки, и как только нагнулся, его ударили сзади железным бруском по затылку. И все затем, чтоб унесть тот жалкий заморский аккордеон, что и стоил-то рублей тыщу, не больше. И ни заслуг его не пожалели, ни славушки его солдатской. Он был храбрый и, харкая кровью, триста метров еще до родного крыльца полз.
А я как знала, что беда в дом последняя пришла. Будто кто в спину подтолкнул в ту минуту. Из сепей выскочила, а он лежит на пороге в гимнастерке окровавленной и губами посиневшими шепчет: «Мама, родная, вот как свиделись. А как я спешил». И захрипел в ту минуту, скончался у меня на руках мой любимый Андрюшенька, последняя моя кровинушка. Выходит, что и первый и последний его вскрик мне пришлось слушать.
Через день мы его похоронили на нашем заводском кладбище. А вскоре и тех трех, что за аккордеон его жизни лишили, поймали. Чубатые вислогубые выродки слезами на суде заливались, смягчить меру просили. И что же ты думаешь, дорогой Иосиф Виссарионович? Одного из них к расстрелу приговорили, а двух других всего к десяти годочкам. А кто они? От фронта вроде как по малолетству открутились, хотя было по девятнадцать и двадцать лет. На заводе последние хулиганы, пьяницы и прогульщики. И вот попадут они в заключение и, случись какая амнистия, и своего срока не отсидят. Да еще стахановцами прикинутся. А потом их выпустят на волю, и через два-три года они снова поднимут руку на жизнь человеческую, потому что они есть звери, а зверь, вкусивший человеческой крови, уже никогда этого не забывает. А ты сам говорил, что дороже человеческой жизни ничего у нас нет. И вот я хочу сказать тебе от всех матерей, которые подобным образом потеряли своих сынов и дочек. Пусть меня они не посылали к тебе делегатом, но я скажу. Говорят, что у нас даже целый институт есть, где преступное дето изучается, и что там даже профессора в генеральских мундирах лекции эти самые читают. А нужно ли все это: посуди сам, ну сколько процентов населения на нашей земле подобные ублюдки составляют? Небось одну, две десятых процента, не больше. А каждый из них еще зверее любого фашиста. Какое же им можно выдумать перевоспитание? Не лучше ли каждого убийцу беспощадно стрелять, а то и вешать, как бешеного пса, на том месте, где загубил он душу невинную, и пусть женщины, родившие таких на свет, стоят рядом и плачут слезами кровавыми. Да что там убийцу!
Каждого поднявшего на честного человека нож, расстреливать надо. Тогда только наведем мы порядок на земле нашей, и не будет матерей вроде меня, поседевших допрежь времени, убитых горем на веки вечные. Вот что я мыслю об убийцах-уголовниках, дорогой Иосиф Виссарионович. Уж прости меня, грешную, за прямое и резкое слово мое».
…Демин приоткрыл глаза и осторожно посмотрел на лежавшую рядом жену. Зара тихонько всхлипывала в подушку. Он сначала хотел ее успокоить, но потом подумал, что Зара разволнуется еще больше, и сделал вид, что спит. Утром ни один из них не дал понять Домне Егоровне, что ее горе им известно. Они не стали расспрашивать бедную женщину о том, послала ли она письмо тому, на чье имя его сочиняла. С той поры обоим им стала ближе и понятнее суровая с виду Домна Егоровна, и жизнь в маленьком домике стала еще дружнее.
…Трамвай уже отгрохал положенное количество остановок и, заскрежетав колесами, замер на кольце. С маленьким тортом в руках шагала высокая стройная Зара рядом с прихрамывающим капитаном, у которого заметно оттопыривались карманы от кульков со сладостями.
– Понимаешь, он меня про Кантемира спрашивал, а я совсем недавно книгу о нем прочла и как рыба в воде ориентируюсь, – быстро повествовала она, – а Тредиаковский и Сумароков и вовсе на экзамене оказались нестрашными.
– Подожди-ка, сорока-белобока, – остановил ее Демин, – гляди. На маленькой корявой скамеечке у входа в крохотный домик их поджидала хозяйка. Опираясь на палку, она задумчиво и несколько вопросительно смотрела на них.
– Смотри-ка, – отметил Демин, – в единственный свой черный костюмчик облачилась, платок дорогой надела. Это же по какому поводу такой парад?
– Будто не знаешь, – толкнула его тихонько Зарема, – нас ждет.
Едва они приблизились, Домна Егоровна встала, с плохо разыгранным безразличием проговорила:
– А я вот воздухом подышать вышла. Надоело дома одной. А вы откуда, ребятки?
– Из города, – солидно покашлял Демин, но старушка, поглядев на Зарему, вдруг рассмеялась.