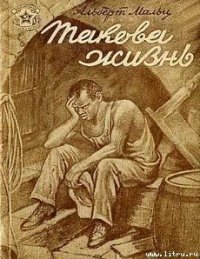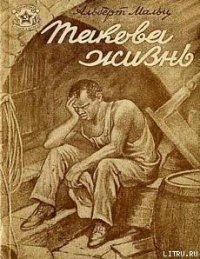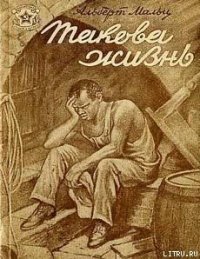Крест и стрела - Мальц Альберт (читать книги онлайн полностью без сокращений .TXT) 📗
Внезапно, словно марионетка, которую дернули за веревочку, он повернулся и торопливо зашагал к больнице.
6 часов 40 минут утра.
Сестра Вольвебер подняла голову и близоруко прищурилась на входящего Цодера. Она вытирала Веглеру лицо влажным полотенцем.
— Я вам нужна, доктор? — спросила она.
— Да. Я хочу начать обход, — ответил Цодер. — Пошли. Быть может, у меня будут распоряжения.
— Что вы, доктор, — кротко возразила она, — почему вы нарушаете распорядок? Сейчас не время обхода. Сейчас время завтрака. Обход в половине восьмого. Ведь так было всегда.
Ухмыльнувшись, Цодер низко поклонился.
— Ваше высочество, — сказал он, делая вид, что заикается от робости. — Если будет на то ваша милость, дозвольте объяснить: в восемь часов прибудет партийный руководитель Баумер. В семь часов придет человек с трещиной в прямой кишке — срочный случай. У нас война, мы должны уметь справляться с непредвиденными трудностями. Наше отечество в опасности! Хайль Гитлер! Идете вы или нет?
— Хайль Гитлер. Иду, иду, доктор. Извините.
— Сначала проверьте его пульс.
— Только что проверяла, доктор. Пульс — сто двенадцать, температура — тридцать восемь и одна, дыхание — двадцать четыре.
— И что же вам подсказывает арийская интуиция, ваше высочество? Не начинается ли перитонит?
— Вы смеетесь надо мною, доктор. Я ведь стараюсь выполнять свой…
— Положите ему на губы влажную марлю. Полагаю, никаких признаков сознания, иначе бы вы мне сказали.
— Лежит, как мертвый, доктор.
— Гм… Должно быть, мозговая травма, а? Иначе он бы уже скулил «дайте воды».
— Я тоже так думаю, доктор. Скотина! Он этого не заслужил. Ему следовало бы умереть от жажды. Пусть бы хоть помучился за свое злодейство!
— Совершенно верно, совершенно верно. Пусть расплачивается за грехи — как я.
— Как вы, доктор?
— Разве вы не замечали? — Он подошел к ней ближе. — Боли в спине. Вы хотите сказать, что я удачно скрывал их от вас?
— У вас болит спина, доктор? Я не знала…
— Ладно, ладно, будто вы не были замужем. В молодости я много шалил, сестра. — Он ущипнул ее за щеку. — Теперь, конечно, расплачиваюсь. Я уверен, оба ваши сына…
— Убирайтесь! — сказала она, хлопая его по руке. — Вы просто идиот!
— Как-нибудь ночью, ваше высочество, — сказал он, подмигнув, — как-нибудь ночью, моя красавица, я постучусь к вам в дверь. Мы заберемся в вашу непорочную постель — я и мой шанкр… — Цодер вышел из палаты. — Пошли, моя голубка.
Сестра Вольвебер улыбнулась, покачала головой и, кряхтя от ломоты во всем теле после бессонной ночи, пошла за ним с тазиком в руках. Закрыв за собой дверь и увидев на середине коридора длинную, тощую фигуру Цодера, она с гордостью подумала: «Да, он сумасшедший, но какое беззаветное внимание к пациентам! Какое счастье служить отечеству под руководством такого человека!» Тяжело переводя дух, она поспешила за ним.
Со стоном облегчения Вилли открыл глаза. Сестра Вольвебер пробыла в палате почти десять минут. Влажное полотенце приятно освежило его пылающий лоб и шею. Но надо было делать почти нечеловеческие усилия, чтобы лежать неподвижно. Никогда еще он не испытывал таких физических мук. Когда он пришел в себя, первые несколько часов все ощущения были притуплены наркозом. Он чувствовал боль и жажду, но все это было вполне терпимо. Рев шестичасового гудка, донесшийся с электростанции, как бы провел резкую грань. Впервые в жизни Вилли узнал пытку беспрерывной боли. И сейчас он понял, что его решение лежать молча быстро ослабевало. К чему? — стал думать он. Стоит произнести хоть слово — и доктор даст ему морфия. Планы английских самолетов не изменятся, если он заснет. Они либо прилетят, либо нет. Ночью ему удавалось отвлечь себя то одной мыслью, то другой, но сейчас жажда становилась невыносимой. Незадолго до того, как сиделка выжала несколько капель влаги из марли ему в рот, Вилли чуть было не начал кричать. К чему эти лишние страдания? — спрашивала его плоть. У плоти не было любопытства, у плоти не было ни гордости, ни ненависти, которые поддерживали бы ее. И от жаркого пламени, пожиравшего тело Вилли, его решимость стала таять, как воск горящей свечи.
Поддавшись боли и жалости к себе, Вилли слабо всхлипнул. Но слез не было. В его теле не осталось ни капли влаги. Сделав усилие, он поднял правую руку, сунул пальцы в рот и прикусил зубами. «Не сдавайся, Вилли, — твердила его гордость. — Думай о том, что будет, если прилетят английские самолеты. Тогда тебе и жажда будет нипочем».
«Воды! — вопила плоть. — Воды!»
А гордость отвечала: «Думай о чем-нибудь. Напевай про себя песенку. Думай о Кетэ или о Берте. Ты не должен сдаваться, Вилли. Ты никогда не выказывал особого мужества, так выкажи хоть сейчас, в свой последний день. Если бы ты лежал на поле боя, ты бы не стал рассчитывать на помощь врача. Ради бога, хоть немного мужества! Сейчас семь часов утра. Ночь уже прошла, пройдет и день. Тебе нужно подождать только до полуночи. Значит, пять… семнадцать часов. И тогда — либо прилетят самолеты, либо ты сорвешь повязку. Не будь же таким жалким трусом, Вилли».
Мысль о том, что он трус, возникла и стала точить душу Вилли час назад. Казалось, будто в нем два человека, и один из них — враг, старающийся сделать другому побольнее. И эти два человека боролись между собой за его гордость, за те крохи самоуважения, что в нем остались.
«Трус! — говорил враг. — Где и когда ты был мужественным?»
«Я сражался на войне», — отвечал Вилли.
«Сражался! Что за вздор. Ты все время трясся от страха, как и другие».
«Во всяком случае, я был порядочным человеком. Я жил честно. Я никому не причинил вреда».
«Честно? Когда ты сидел на той скамейке в парке, разве ты был честным? Разве ты предупредил мать того ребенка?»
«Человек может ошибаться. Я пошел к поляку — разве это было не мужественно? Я был готов помочь ему. Если бы поляк захотел, я бы сделал все, что обещал: достал бы ему еды и денег, отдал бы свои документы, выломал бы дверь сарая. Не моя вина, что поляк от этого отказался. А сигнал, зажженный мной для английских самолетов, — что это, разве трусость? Ведь это требовало мужества, разве не так? Я могу гордиться этим».
«Ну, ну, — презрительно сказал враг. — Ты много о себе воображаешь. Скажи мне, Вилли Веглер, как ты смотришь на свою жизнь? Хорошо ли ты ее прожил? Можешь ты оглянуться на нее без стыда? Всегда ли ты поступал разумно, думал ли ты о других?»
«Я ведь только человек, — бормотал Вилли. — Что ты от меня хочешь? Я не ангел. Теперь-то легко вспоминать прошлое и твердить, что я должен был поступать иначе…»
Вилли застонал, сообразив, что говорит почти вслух. Это очень опасно. Он должен следить за собой, иначе все пропало. Сиделка сказала, что температура у него тридцать восемь и одна. Значит, бреда быть не может и такой слабости нет оправдания.
«Ах, Вилли, Вилли, — бормотал он про себя. — Будь же гордым в этот свой последний день. Борись до конца. Тот поляк несчастнее, чем ты. Правда же, он несчастнее. Почему ты плачешь? Вчера Баумер вручил тебе крест „За военные заслуги“, — вот когда надо было плакать, а не теперь. Тебе сейчас нечего стыдиться за себя. Кое-что ты все-таки сделал. Ты это знаешь. И бог это знает тоже. А если бога нет, то узнают люди, по крайней мере некоторые. Где-то услышат, где-то, конечно, об этом будет написано. Ты веришь в это. Правда, Вилли?»
Стыд — коварная штука. За два дня до того, как Вилли совершил преступление против государства, он и не помышлял об этом. Он пошел в сарай Берты Линг не столько затем, чтобы помочь польскому пленному, сколько для того, чтобы успокоить свою совесть. И если бы поляк принял его помощь, возможно, этот единственный акт милосердия Вилли счел бы полным искуплением и потом закрыл бы глаза на окружающий мир. А может быть, и нет, — кто его знает.
Но поляк отверг его помощь. Это было так, словно священник отказал в утешении страждущему брату во Христе. И когда Вилли, спотыкаясь и ничего вокруг не видя, брел в темноте к баракам, он снова и снова повторял себе с бунтарской гордостью, что поляк был к нему несправедлив. Про себя он кричал небу, что он не животное, вроде Руди, что он неспособен купить человека за деньги, как Берта. В чем же его вина? — спрашивал он себя. Поляк считает, что он заодно с другими, — ведь это несправедливо. Поляк испугался; он не понял — вот и все.