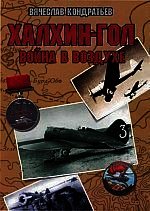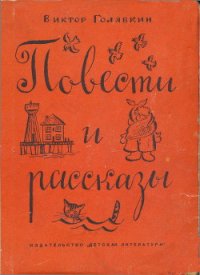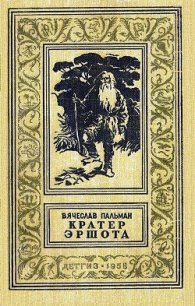На поле овсянниковском (Повести. Рассказы) - Кондратьев Вячеслав Леонидович (книги серия книги читать бесплатно полностью TXT) 📗
Завтракать он не мог, лишь выпил залпом два стакана чаю. Мать смотрела на него удрученным взглядом, который был для него хуже, чем любой самый крупный и неприятный разговор.
— Больше этого не будет, мама, — сказал он твердо, отставляя от себя стакан. — И на днях я верну деньги.
— Дело не в деньгах, Володя. Я в первый раз увидела тебя таким. И не хочу больше. Понимаешь?
— Да, мама…
Вернувшись в свою комнату, он бухнулся на постель… Несколько раз всплывали в памяти Надюхины слова, сказанные грустно, с каким-то вроде сожалением: «Я у тебя первая, видно?», «Что ж, нету у тебя в Москве девушки, с которой…» Словно и ей, Надюхе, из жалости подарившей себя ему, было неловко, что совершил он это спьяну, без любви, с совсем незнакомой женщиной, просто попавшейся под руку, будто и она понимала, что не годится так… А почему «будто»? Конечно, понимала, хотя ей самой уже не для кого беречь себя…
И получилось все это слишком просто, как-то безрадостно, совсем не похоже на его сны, а особенно на последний, в котором снилась Майя… И непонятно Володьке, почему от реального не получил того, что ожидал, что предвкушал, что было так необыкновенно во сне, почему лежит на душе мутный осадок какого-то сожаления о чем-то утраченном, потерянном навсегда, чем-то — только гораздо слабее — напоминающем то, что было после «случая» с немцем?
Конечно, легче всего было свалить все на Юльку. Будь она с ним — этого не случилось бы. Не прочти он ее тетрадку, не взревнуй ее к «этому человеку» — не пошел бы к Егорычу, не стал бы знакомиться с Надюхой. Но таким мыслям Володька ходу не дал. Никогда не искал он себе оправданий за счет других.
Чтобы как-то отвлечься, оглядел он опять свою книжную полку и наткнулся взглядом на «Огонь» А. Барбюса. Читал он эту вещь еще до армии, но она оставила его почти равнодушным, но сейчас, раскрыв книгу, он уже не мог оторваться — это была война, страшная война, густо замешенная на деталях фронтового быта, война без романтики… Серые, жуткие, непроглядные будни войны, и, казалось, запах тлена шел со страниц этой повести… Да, это была правда войны, но не полная правда, как подумалось Володьке, потому как его война была иной. Иной в главном, в том пронизывающем всех их ясном и огромном чувстве понимания справедливости этой войны. Оно-то и помогало им всем выдерживать и превозмогать то нечеловеческое, присущее любой войне.
Именно это и заставляло хорошо воевать даже тех, кто в какой-то мере был обижен и на которых, вероятно, и возлагали надежды немцы. Володьке вспомнился один боец из его роты, раскулаченный в свое время под горячую руку середняк с Поволжья, который прямо говорил ему: «В том, что моя жизнь порушена, Россия не виновата. Это с нашей местной властью у меня есть счеты, а с Россией нет. И вы, командир, на меня положиться можете, не хуже, чем на кого другого. Вот победим немца, авось разберутся…»
В кафе-автомат Володька больше не ходил — надоело. Не хотелось ему и на улицу. Только вышел позвонить Сергею. Тот сразу же согласился дать Володьке тысячу и, казалось, был вроде бы рад, что может оказать Володьке какую-то услугу. Они встретились на ходу — Сергей спешил на работу — около Колхозной, и денежный вопрос был решен — Володька отдал деньги матери.
Потом он целые дни валялся на кушетке и думал… А думать было о чем. Во многом нужно было разобраться ему.
Плетясь вместе с другими ранеными рядовыми бойцами с передовой в госпиталь, слушая их рассуждения о войне, рассказы о том, что довелось испытать им на разных участках, их соображения насчет действий их командиров, Володька начинал понимать: если звание и должность давали ему право распоряжаться чужой жизнью, то как должен он быть осмотрителен и осторожен, потому что все эти люди не глупей его и не хуже, а может быть, в чем-то и лучше разбираются во многом, так как старше его по возрасту и по жизненному опыту.
И что не всегда его решения были уж так правильны, обдуманны, как следовало бы.
В общем, вторая половина его отпуска началась томительными раздумьями. Он без конца прокручивал в голове Ржев, и мать, видя, как шагает он из угла в угол комнаты, все беспокойней поглядывала на него, пока наконец не сказала:
— Быть может, Володя, тебе нужно прогуливаться по улицам и заходить иногда в этот автомат с пивом?
— Мне не хочется и туда… Я думаю, мама…
— О чем?
— О многом… Дни-то бегут, а мне надо многое решить.
— Да, дни бегут.
— Знаешь, мама, я обдумываю сейчас все, что было со мной подо Ржевом, и мне начинает казаться: в прозвище «лейтенант Володька» была, пожалуй, не только солдатская ласковость, но и другое…
— Что же?
— Некоторая снисходительность, что ли. Хоть ты и лейтенант, а все-таки Володька, то есть мальчишка еще. Знаешь, мои ребята одним словом определили мою тогдашнюю суть.
— Очень хорошо, что ты понял это сам.
— Ты поняла раньше?
— Да, наверно… — Она взглянула на него, ожидая продолжения разговора, но Володька отвернулся, уйдя опять в себя.
Да, очень точно определили ребята его суть, думал он, все больше начиная понимать, что, наверное, не заковыристым матом и бездумной лихостью, не небрежением к опасности, чем иногда щеголял он, можно и надо заслужить уважение людей, а чем-то совсем другим, — может, совсем обратным: осторожностью, тщательной продуманностью всех своих действий и решений, так как за ними — человеческие жизни.
Иногда, устав от размышлений, прерывал он свои внутренние монологи горькой усмешкой: ну чего голову ломать? Через несколько недель может все кончиться. Можно ведь и до фронта не доехать, попав в «хорошую» бомбежку в эшелоне… Так чего же мучить себя? Не лучше ли как Егорыч: пузо набил, стопку выпил — и на боковую? Или еще лучше — двинуть на Домниковку, а там, прижимая горячее Надюхино тело, забыться, отдаться естественному чувству обреченного, вырвать от жизни напоследок все, что она может тебе дать в настоящую минуту, и не думать ни о чем?
Но не чувствовал себя Володька обреченным. Не чувствовал даже там, подо Ржевом, когда казалось — уже все, каюк, не выйти живым. Тем более не мог считать себя обреченным сейчас, находясь в Москве, в собственной комнате… Потому-то и продолжал размышлять, анализировать, чтоб в будущем не допустить тех ошибок и не-догадок, которые случались подо Ржевом.
Однако Володьке было всего двадцать один год, и продолжаться такое состояние долго не могло. Однажды, убирая свою комнату, наткнулся он на обрезок трамвайного рельса, служивший ему до армии вместо гири. Было в этом обрезке пуда полтора, и поднимал он его правой до тридцати раз, а левой даже чуть больше. И вот попробовал и выжал правой еле-еле пятнадцать. Это его обескуражило. Надо входить в форму, подумал он. И хотя физическая сила пригодилась ему на фронте только один раз, при взятии «языка», он любил ощущать себя сильным, любил выходить победителем в мальчишеском состязании перегибания рук, которым они увлекались в школе после прочтения джек-лондонского «День пламенеет».
И теперь, позанимавшись до завтрака рельсом, отправлялся он бродить по московским улицам, делая большие — километров до десяти — круги по Москве, и в этом вроде бы бесцельном хождении стал находить удовольствие и какое-то успокоение. Рана в предплечье почти затянулась, и было уже не больно сжимать и разжимать кисть, и, бродя по улицам, он исподволь тренировал руку… Ходьба — все-таки какое-то дело — помаленьку вносила душевное равновесие, и Володька начал оттаивать.
Так было до получения большого письма от Юльки, в котором она путано и несвязно старалась объяснить ему, почему она не хочет его встречи с «этим человеком», и просила прийти в воскресенье к училищу, — может, она вырвется на минутку и объяснит ему все подробней.
Володька знал, что врать он не умеет и что по выражению его лица Юлька сразу догадается о том, что произошло на Домниковке. Но не идти было нельзя, и в воскресенье он потопал пешком на Матросскую Тишину.