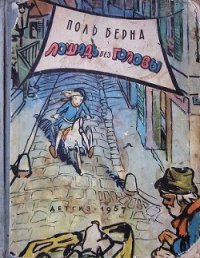Женское сердце - Бурже Поль (книги бесплатно полные версии txt) 📗
Такие размышления о преимуществах и недостатках своего собственного характера не приходили в голову Жюльетте, хотя ей часто случалось говорить себе по поводу тех или иных мелких обстоятельств, требующих ясного, хотя и неприятного отказа некоторым из своих друзей: «Я была слишком нерешительна» или «Мне следовало сказать определеннее». С нашим характером часто происходит то же, что и с нашим здоровьем. Мы долго страдаем, прежде чем сознаем свое нездоровье. Так и г-жа де Тильер не понимала, почему многое из того, что составляло радость ее прежних лет, теперь ей было в тягость: например, вечерние tete a tete с де Пуаяном, когда между ними наступали долгие молчания, и попытки их обоих оживить разговор лучше всего подчеркивали контраст между прежними и настоящими вечерами. Каждый раз она приписывала это стеснение, казавшееся ей лишь минутным, каким-либо мелким случайностям.
Так, например, когда по возвращении из отеля де Кандаль простая фраза лакея, объявившего ей о присутствии де Пуаяна, болезненно поразила ее, вернув к действительности, она сейчас же приписала это боязни, что возлюбленный ее оскорблен, тем более, что, снимая пальто, она заметила стоявшего в углу передней лакея графа. На вопрос ее он ответил:
— Я жду корректуру речи графа, чтобы снести ее в типографию…
«Ах, правда, он говорил сегодня речь», — подумала Жюльетта, — «он, вероятно, сердится, что я вернулась так поздно. Он не привык видеть с моей стороны так мало внимания к себе».
В действительности же это посещение было ей прямо неприятным, так как она чувствовала потребность продолжать мечтать в одиночестве о Казале, как мечтала о нем в карете. Вот до какой степени глубоко было впечатление, произведенное на нее этой встречей. Но как могла она допустить такое объяснение своему недовольству, будучи уверенной, что любит де Пуаяна на всю жизнь? Эта уверенность была оправданием ее ошибки. Ах, сколько иллюзий создаем мы себе и в течение скольких лет, когда чувства наши начинают умирать!.. Но иногда в один час разбиваются все эти иллюзии, и это должна была испытать Жюльетта в данный вечер.
— Вы сердитесь на меня, мой друг? — сказала она, входя в гостиную в стиле Louis XVI, слабо освещенную сливавшимся светом камина и лампы.
Граф сидел за столиком, за которым она сегодня ему писала. Увидя ее, он быстро встал, чтобы расцеловать её пальцы, и, показывая кипу бумаг, которыми был завален столик, ответил:
— Сержусь? Но, как видите, у меня еще не хватило на это времени. Ожидая вас, я работал, за что, надеюсь, вы на меня не сердитесь. Не правда ли? Заседание кончилось очень поздно, а мне еще нужно было проверить корректуру для «Официального Вестника». Я приказал Жану принести мне их к вам, и, по счастью, — прибавил он довольным тоном человека, исполнившего долг, — они почти окончены… Вы позволите?
Сев за столик, он окончил работу, начертав на полях несколько знаков; потом собрал разбросанные листы, вложил их в приготовленный конверт и сам вручил его ожидавшему в передней лакею. Все это продолжалось не более десяти минут. Почему же Жюльетта, желая загладить обиду друга и приготовившись быть с ним ласковой и нежной, теперь, в свою очередь, почувствовала себя оскорбленной, встретя с его стороны такой спокойный прием?
Конечно, вина ее, заключавшаяся в том, что она в течение целого вечера интересовалась Казалем настолько, что совершенно забыла о де Пуаяне, сама по себе не была тяжким преступлением. Но с точки зрения сердечной привязанности дело обстояло иначе. Ей хотелось, — она только смутно сознавала это, — чтобы любовник ее рассердился на нее, может быть, и несправедливо, но этим очистил бы ее совесть и дал ей возможность искупить свою вину милыми ласками. Контраст между ее внутренним волнением и внешним спокойствием де Пуаяна огорчил ее; от его приема на нее повеяло холодом. С тех пор как любовь ее начинала угасать, ей несколько раз казалось, что у Генриха не было больше к ней прежних порывов нежности. Первым признаком и странным миражом бессознательно умирающей страсти бывают упреки в недостатке любви тех, кого мы сами начинаем меньше любить. И мы искренно верим в это. Никогда еще г-жа де Тильер не чувствовала, как в эту минуту, что между ею и де Пуаяном что-то умерло. Она подошла к камину и, протянув к огню ногу в прозрачном шелковом чулке, стала следить в зеркале за каждым движением графа, занимавшегося с заботливостью автора последними поправками корректуры. Почему же вдруг другой образ стал между ними, закрыв собою ее возлюбленного? Почему же в каком-то проблеске полугаллюцинации она увидела человека, рядом с которым только что обедала, «красавца Казаля», как назвала его Габриелла, его могучий и стройный силуэт с гибкими движениями, говорившими об его силе, с мужественным, несмотря на усталость, лицом? Но вот воображаемый облик исчез, уступая место реальности, и она вновь увидела того, кому принадлежала в течение многих лет, отдавшись ему по свободному выбору. Рядом с тем он показался ей вдруг таким неуклюжим, болезненно-тщедушным, что сравнение это заставило ее почувствовать невероятную неловкость.
Генрих де Пуаян, которому минуло тогда сорок четыре года, был довольно высок и худ. Горе, точившее его молодость, сменилось утомлениями парламентской жизни; все это вместе взятое подорвало его здоровье. Привычка к сидячей работе немного сгорбила его узкие плечи. Поседевшие белокурые волосы начинали редеть. На бледном лице выступали темные пятна, говорившие о вялости крови, о болезненном состоянии желудка и нервности, развившейся в нем вследствие сидячей жизни. В чертах этого исхудалого лица и линиях фигуры, худоба которой обрисовывалась фраком, было много аристократизма; но в них чувствовалась слабость организма и преждевременное истощение. Взгляд чудных, искренних голубых глаз и надменное выражение бритого рта оставались прекрасными. Они выражали то, что поддерживало благородного оратора с самого раннего и несчастного его детства, — сдержанную горячность чувства, глубокую веру и непобедимую энергию воли. Этому человеку женщина не могла отдаться иначе, как принося ему лучшее самой себя: или горячо увлекаясь его красноречием, или же страстно желая залечить те раны, которыми была полна его жизнь. Из таких побуждений г-жа де Тильер и отдалась ему. Но опасность подобных союзов, основанных исключительно на романическом чувстве, когда женщина отдается лишь из преклонения пред умственным превосходством своего возлюбленного или из сентиментальной жалости к нему, заключается в том, что всегда наступает час, когда восхищение это притупляется в силу привычки, а жалость ослабляется самим удовлетворением. Тогда глаза ее открываются. Она содрогается, сознав ошибку своих чувств, но — увы! — слишком поздно. Счастливы те, у которых сознание это является независимо от каких-либо посторонних влияний или же без того, чтобы это внезапное разочарование было вызвано обаянием другого мужчины! Но если в минуту, пока Жюльетта жадно вглядывалась в зеркало, в ее светлых глазах и мелькнула самая сильная, какая только может пронизать гордую душу, горечь сожаления, то Генрих де Пуаян, подойдя к ней, ничего не заметил, — так же как и дворецкий, приносивший по вечерам, когда они бывали вдвоем, серебряный поднос с самоваром, чайником, пирожками, графинчиком водки, ковшиком со льдом, чашками и стаканами.
— Вы много поработали сегодня, хотите, я вам приготовлю грог? — сказала молодая женщина, оборачиваясь к графу с самой очаровательной улыбкой.
Можно ли такие улыбки называть лицемерием?
Цель их — избавлять от лишних огорчений, и те женщины, на устах которых они появляются, считают грехом показывать свою тайную горечь. Они сами не знают, на какой вступают путь с того момента, когда взгляд их и лицо перестают быть отражением их сердца даже в таких незначительных поступках, как приготовление обычного питья тому, кому они еще хотят нравиться.
— Пожалуйста, — ответил граф на предложение своей подруги и, в свою очередь, принялся смотреть, как она своими тонкими руками наливала горячую воду в русский стакан с золоченым резным подстаканником и размешивала в нем ложкой куски сахара. Сидя у подноса, она была очаровательна в своей позе и больше, чем когда-либо, напоминала бледным золотом своих волос пастель прошлого века. В ее прекрасных обнаженных руках было столько грации и гибкости, а в сочетании розовато-черного платья с цветом ее лица, немного оживленном пламенем камина, — столько страстной неги, что граф невольно к ней приблизился.