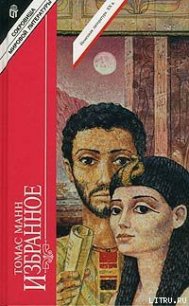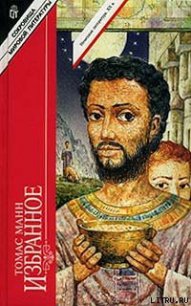ДОКТОР ФАУСТУС - Манн Томас (читать хорошую книгу полностью .txt) 📗
1 «Размышления о насилии» (франц.).
2 Интеллектуальную жертву (лат.).
Теперь пусть читатель представит себе (я подхожу к обещанной «наглядной картинке»), как эти господа, сами люди науки, ученые, профессора — Фоглер, Унруэ, Гольцшуэр, Инститорис, а с ними и Брейзахер — упивались ситуацией, которая так меня ужасала и которую они считали либо уже сложившейся, либо неизбежно складывающейся. Забавы ради они разыграли судебный процесс, где разбирался один из тех массовых мифов, что призваны служить движущей политической силой и направлены на подрыв буржуазных общественных порядков, причем апологеты этого мифа должны были отстоять его от обвинения во «лжи» и «фальсификации»; обе стороны — истцы и ответчики — не столько полемизировали друг с другом, сколько, до смешного не в лад, говорили каждый свое. Что-то гротескное было во внушительном аппарате научных данных, привлеченном для того, чтобы назвать чушь чушью и скандальным оскорблением правды, ибо ведь с этой стороны к динамической, исторически-творческой фикции, к так называемой фальсификации, то есть к коллективизирующей вере, не следовало и подступаться, и ее защитники изображали на своих лицах тем большее презрение и превосходство, чем усерднее старалась противная сторона опровергнуть их на совершенно чуждой и ненужной им почве, на почве научной, на почве честной, объективной истины. Бог ты мой, наука, истина! Дух и тон этого возгласа пронизывал драматические вещания спорщиков. Они не уставали потешаться над бесполезными нападками критицизма и разума на совершенно неприступную, абсолютно неуязвимую в таких столкновениях веру и объединенными усилиями сумели представить науку в настолько смешном свете и настолько немощной, что даже «прекрашные принсы» чудесно тут забавлялись на свой инфантильный манер. Правосудию, за которым было последнее слово и окончательный приговор, повеселевшие участники диспута не замедлили приписать такое же самоотрицание, каким они занимались сами. Юриспруденция, желающая слиться с «народным чувством» и не быть изолированной от коллектива, не может позволить себе судить с точки зрения теоретической, враждебной коллективу так называемой истины; она должна доказать, что она современна, в современнейшем смысле патриотична и уважает плодотворный обман, оправдывая апостолов обмана и оставляя с носом науку.
О, конечно, конечно, разумеется, так можно было сказать. Топай, топай ножкой.
Несмотря на то что у меня неприятно сосало под ложечкой, я не хотел портить игру и, не подавая виду, что она мне противна, в меру своих сил участвовал во всеобщем веселье, тем более что оно далеко не означало согласия с готовящимися или надвигающимися событиями, а было, по крайней мере покамест, лишь насмешливо-благодушной попыткой постигнуть их. Однажды, впрочем, я предложил «на минутку отвлечься от забавы» и подумать» не поступит ли пекущийся о нуждах коллектива мыслитель умнее, если поставит своей целью все-таки истину, а не коллектив, потому что косвенно и постепенно истина, и даже горькая истина, приносит коллективу большую пользу, чем философия, решившая послужить ему в ущерб истине, но в действительности этим своим отрицанием начисто разрушающая изнутри основы настоящего коллектива. Однако никогда в жизни мне не случалось делать замечания, которое бы так бесславно рассыпалось прахом, как это. Признаю, что оно было бестактно, ибо не соответствовало общему умонастроению и отдавало заурядным, слишком заурядным, прямо-таки пошлым идеализмом, только мешавшим новому. Гораздо лучше было вкупе с возбужденными застольцами разведывать и созерцать это новое и, вместо того чтобы бесплодно и скучно ему противиться, приспособить свои представления к ходу дискуссии и в рамках ее составить себе картину будущего, исподволь уже возникающего мира, как бы там ни сосало под ложечкой.
Это был старо-новый, революционно-архаизированный мир, где ценности, связанные с идеей индивидуума, такие, стало быть, как правда, свобода, право, разум, целиком утратили силу, были отменены или во всяком случае получили совершенно иной смысл, чем в последние столетия, будучи оторваны от бледной теории и кроваво переосмыслены, поставлены в связь с куда более высокой инстанцией насилия, авторитета, основанной на вере диктатуры, — не каким-то реакционным, вчерашним или позавчерашним способом, а так, что это переосмысление равнялось исполненному новизны возврату человечества к теократически-средневековому укладу. Если это и реакционно, то лишь в той мере, в какой путь вокруг шара, естественно огибающий его, то есть заканчивающийся в исходной точке, можно назвать движением вспять. Таким образом, регресс и прогресс, старое и новое, прошлое и будущее сливаются воедино, а политическая правизна все больше и больше совпадает с левизной. Беспредпосылочность анализа, свободная мысль, далекая от того, чтобы объявлять себя прогрессивной, становится уделом мира отсталости и скуки. Мысли дается свобода оправдывать насилие, подобно тому как семьсот лет назад разуму предоставляли свободу разъяснять веру, доказывать догму: на то он и существовал, на то и существует сегодня и будет существовать завтра мышление. Анализ во всяком случае получает предпосылки — какие бы то ни было, а предпосылки! Насилие, авторитет коллектива — вот они, эти предпосылки, настолько сами собой разумеющиеся, что наука вовсе и не думает считать себя несвободной. Она вполне свободна субъективно — внутри объективной скованности, настолько вошедшей в ее плоть и кровь и естественной, что никоим образом не воспринимается как обуза. Чтобы понять предстоящее, чтобы избавиться от глупого страха перед ним, достаточно вспомнить, что обязательность определенных предпосылок и священных условий никогда не была помехой фантазии и индивидуалистической смелости мысли. Напротив, именно потому, что духовная стереотипность и замкнутость были заранее, как нечто само собой разумеющееся, заданы церковью средневековому человеку, тот был в гораздо большей степени человеком фантазии, чем гражданин индивидуалистической эпохи, и мог в каждом частном случае куда беззаботнее и увереннее дать волю личному воображению.
О да, насилие утверждалось на твердой почве, оно было антиабстрактно, и благодаря сотрудничеству с друзьями Кридвиса я отлично представлял себе, какие методологические изменения внесет это старо-новое в ту или иную область жизни. Педагог, например, знал, что уже сегодня начальная школа склонна отказаться от предварительного заучивания букв и слогов и обратиться к методу изучения слов, чтобы связать письмо с конкретными зрительными образами вещей. Это в известной мере означало отход от абстрактно-универсального, не связанного с тем или иным языком буквенного письма и возврат к идеографическому письму первобытных народов. Втайне я думал: зачем вообще слова, зачем письменность, зачем язык? Радикальной объективности следовало бы иметь дело с вещами, только с вещами. И я вспоминал сатиру Свифта, где падкие на реформы ученые постановляют ради сохранности легких и во избежание пышных фраз вообще отменить слова и речь и объясняться жестами, указывающими непосредственно на предметы, каковые, в целях общения, надлежит в возможно большем количестве носить с собой на спине. Это очень смешное место, и особенно смешно, что противятся данному новшеству и настаивают на словесной речи не кто иные, как женщины, чернь и неграмотные. Конечно, мои собеседники не заходили на свой страх и риск так далеко, как свифтовские ученые. Они скорее напускали на себя вид сторонних наблюдателей: «страшно вашной» представлялась им всеобщая и уже ясно обозначившаяся готовность ничтоже сумняшеся отказаться от так называемых культурных завоеваний во имя некоего, кажущегося необходимым и продиктованным эпохой опрощения, которое, если угодно, можно определить как намеренный возврат к варварству. Мог ли я поверить своим ушам? Я только засмеялся и буквально содрогнулся, когда вдруг, в этой связи, гости заговорили о дантистах и, совершенно по ходу дела, о нашем с Адрианом музыкально-критическом символе — «мертвом зубе»! Я, наверно, действительно хохотал до слез, когда они, весело и благодушно смеясь, болтали об усиливающейся склонности зубных врачей без проволочек удалять зубы с атрофированным нервом (ибо последний признан инфекционным инородным телом) после долгого, кропотливого, тонкого совершенствования терапии корней в девятнадцатом веке. Это остроумное, всеми одобренное замечание сделал доктор Брейзахер: гигиеническая точка зрения, так сказал он, явилась тут в большей или меньшей степени рационализацией изначально наличной тенденции избавиться от балласта, освободиться, облегчиться, опроститься, — при гигиеническом обосновании уместно любое подозрение идеологического характера. Несомненно, что если когда-нибудь приступят к устранению больного элемента в широком плане, к умерщвлению нежизнеспособных и слабоумных, то и под это подведут такие основания, как гигиена народа и расы, хотя в действительности — сие не только не отрицалось, но даже подчеркивалось — дело будет идти о гораздо более глубоких преобразованиях, об отказе от всякой гуманной мягкотелости — детища буржуазной эпохи; об инстинктивной самоподготовке человечества к суровой и мрачной, глумящейся над гуманностью эре, к веку непрерывных войн и революций, который, по-видимому, отбросит его далеко назад, к темным временам, предшествовавшим становлению христианской цивилизации средневековья после гибели античной культуры…