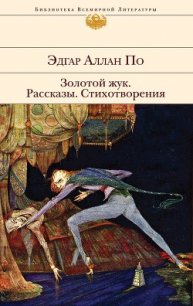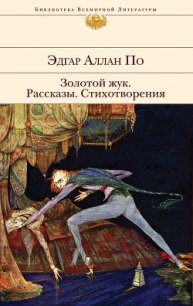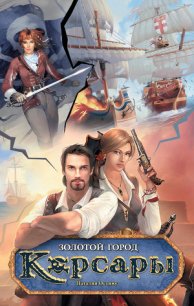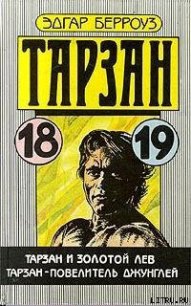Золотой жук. Странные Шаги - По Эдгар Аллан (бесплатная регистрация книга txt) 📗
Горячий поклонник Честертона, критик Роналд Нокс, писал: «…Рассказы о Брауне нельзя просто отнести к детективам: это детективы и еще что-то. Как всегда, Честертон так плотно набил чемодан, что ремни не затягиваются; в сандвиче — слишком много мяса». Попробуем определить это «что-то». Начнем не с самого главного — так часто делал сам Честертон.
Может быть, рассказы Честертона — это детектив плюс психология? Ведь, по общепринятому мнению, их своеобразие в том, что Браун или Фишер не ползают с лупой в поисках улик, а вникают в психологию преступника. Не знаю, первым ли ввел Честертон такой тип сыщика и сыска. Как бы то ни было, честь этого новшества нередко приписывают ему — наверное, у него это вышло лучше и убедительней, чем у других. Но если это и выделяло в свое время его рассказы, теперь расплодилось много таких детективов, и этим приемом никого не удивишь. Да и вообще ради него не станешь перечитывать детективный рассказ. По-видимому, не в этом секрет долговечности честертоновских новелл. Присмотримся к ним пристальней.
Как и Эдгар По, Честертон был поэтом. Он написал семь книг стихов и сотни поэтичнейших эссе. Кроме того, он был художником, учился живописи, всю жизнь рисовал и даже иллюстрировал книги. В предисловии к антологии Честертона в серии «Классики мира» критик Уиндэм Льюис писал о нем: «Живописи, своей ранней любви, он обязан тем, что особенно остро чувствует форму и цвет облака, озера, драгоценного камня…» Льюис прав: Честертон удивительно изображает мир (хотя вряд ли этим он обязан только живописи). Цвета у Честертона — веселые и чистые, как у средневековых художников. Часто кажется, что в его рассказах воздух особенно прозрачен и предметы видны четче, чем обычно. Он сам нередко писал, что все было видно «четко, как под микроскопом», — так мы видим мир, когда очень радуемся или рано утром. В «Автобиографии» Честертон рассказывает, что в детстве все было освещено для него «белым светом чуда». Он и взрослый не потерял этого дара и умел передать его читателю. Когда читаешь его книги, мир кажется особенно привлекательным, веселым и уютным. На лондонской улице или «белой деревенской дороге» могут твориться страшные вещи, а нам не становится ни мрачно, ни уныло. В этом Честертон и похож на Эдгара По, и прямо ему противоположен: мир у него тоже окрашен и пропитан настроением, но не мрачным, а радостным. Хочется попасть в Хэмстедский парк, где беседуют Браун и Фламбо, или постоять в сумерках перед окном кондитерской, светящимся, «как сигара или фейерверк». (Один из критиков говорил, что читателю кажется, будто он видел цветные картинки к рассказам о Брауне.) Но не только о живописи напоминает проза Честертона. Когда читаешь в «Лице на мишени», как разбился автомобиль, кажется, что смотришь фильм. У Честертона — глаз оператора. Особенно напоминают о кино неожиданные ракурсы и световые эффекты (см., например, начало «Причуды рыболова» или го место в «Дарнуэях», где Пейн глядит из овального окна). Влияние кинематографа исключается: когда Честертон начал «Брауна», кино только-только начиналось, да и позже, в 20-30-х годах, Честертон был к нему довольно равнодушен. Он просто сам видел так, хотел и умел так показать мир.
Однако и это не главное в рассказах Честертона. Те, кто с любопытством следил за хитросплетениями его сюжетов или радовался описанию освещенного окна в сумерках и прозрачно-зеленого неба, на котором проступают звезды, удивились бы, наверное, прочитав в предисловии к одному из честертоновских сборников, недавно изданных в Англии: «Гильберт Кийт Честертон всю свою жизнь учил людей жить, и даже теперь его имя — как клич боевой трубы». Тем не менее так оно и есть. Когда читаешь его бесчисленные книги, может показаться, что он только и хотел, что позабавить, ошеломить парадоксом или поворотом сюжета. Но вдруг что-то поворачивается, как в калейдоскопе, и мы видим другое: что бы он ни писал, он боролся и проповедовал, «учил людей жить».
Рассказы Честертона полны поразительных по глубине и мудрости суждений о жизни Хочется выписать их — многие их и выписывают; они вошли в сборники мудрых изречений, а в Англии даже издан «Честертоновский календарь», где на каждое число дается отрывок из его эссе или рассказа. Его суждения можно читать отдельно, но это совсем не значит, что они висят в воздухе, просто вкраплены в текст, как бывают вкраплены шутки или каламбуры. Тот, кого поразит монолог Маргарет в «Пятерке шпаг» или слова Брауна в конце «Летучих звезд», может подумать, что они случайны. На самом же деле Честертон удивительно последователен, все связано у него, все бьет в одну точку Его можно упрекнуть скорее в навязчивости, одержимости, чем в пустой игре ума.
И наоборот: можно прочитать рассказ и не заметить их, словно в глазу у вас слепое пятно; просто не увидеть их, как не видели почтальона в «Невидимке». Рассказ остается занятным и даже блестящим, но теряет третье измерение — глубину.
Чтобы не случилось ни того, ни другого, надо знать, с чем боролся Честертон и что он защищал.
Когда речь заходит о Честертоне, чаще и прежде всего вспоминают об его оптимизме, и, читая о нем, иногда можно подумать, что он «защищал все» — принимал мир, как он есть. Казалось бы, это верно — ведь мы сами говорили выше об особой, радостной атмосфере его книг.
С другой стороны, даже тот, кто прочитает наш сборник, может подумать и другое: уж не пессимист ли Честертон? Атмосфера атмосферой, но в рассказах о Фишере или в «Сломанной шпаге» он, скорее, сгущает краски. Рассказ «Белая ворона», например, гораздо больше похож на сатиру, чем на идиллию. Надо сказать, критики обвиняли Честертона и в слишком мрачном взгляде на современный мир, и в розовом, почти младенческом неведении зла. Сам же он повторял не раз, что никогда не был ни пессимистом, ни оптимистом. В чем же тут дело?
В одной из книг Честертон писал: «Я пришел к выводу, что для оптимиста все и все хороши, кроме пессимиста, а для пессимиста — все плохо, кроме него самого». Таким оптимизмом и таким пессимизмом Честертон не грешил. Как и Браун в «Сапфировом кресте», он гораздо лучше тех, кто подозревал его в неведении, знал, что не все на свете хорошо. Он прекрасно видел зло — в этом можно убедиться, читая любой его рассказ. Больше того: именно безмятежное довольство он считал одним из главных зол. Прекраснодушных людей, считавших, что все хорошо, он называл шовинистами мироздания и говорил, что они «не отмывают, а штукатурят мир».
Но так же строго, если не строже, он относился к тем, для кого «все на свете плохо». С ними он сражался особенно часто. В любой книге его стихов, эссе или рассказов он и жалеет, и высмеивает тех, кто так относится к миру.
Противоречия тут нет. Слепое довольство и горькое уныние — смыкаются в равнодушии. То и другое приводит к бездействию, а Честертон прежде всего проповедовал действие: не безмятежность, а мятеж, не уныние, а вызов С мудростью часто ассоциируют бесстрастие. Честертон стал мудрым очень рано, бесстрастия же не приобрел и в старости и ничуть к нему не стремился. Он и умер потому, что не хотел «уйти на покой», хотя был тяжко болен и врачи приказали ему не волноваться.
«Я принимаю мир, — писал он, — не как оптимист, а как патриот. Мир — не загородный дом, откуда мы можем уехать, если он нам не нравится. Он — наша фамильная крепость с флагом на башне, и чем хуже в нем дела, тем меньше у нас прав махнуть на него рукой» («Флаг мира»).
Честертон любил мир, как любят свой дом, и хотел, чтобы другие полюбили его так же сильно. Только тогда, считал он, люди захотят и смогут сразиться со злом и победить. Он говорил, что надо не просто любить и не просто ненавидеть мир, а «ненавидеть так сильно, чтобы его изменить, и любить так сильно, чтобы счесть достойным перемены».
Так относился к миру он сам. Он умел сильно любить, и ненавидел он сильно; но добро для него — суть мира, а зло — беззаконие, или, как говорил он сам, «узурпация»: оно существует, но не имеет права на существование. Поэтому дух его книг всегда радостен, как бы ужасны ни были события.