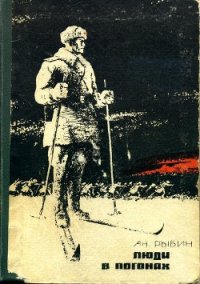И сегодня стреляют - Рыбин Владимир Алексеевич (библиотека книг бесплатно без регистрации txt) 📗
Светало быстро. Темными горбами прорисовывались дальние берега. Всполохи ракет слева угасли, трескотня выстрелов тоже затихла. Наступил тот миг в природе, когда дремота еще одолевает и все в мире блаженно потягивается, прежде чем окончательно проснуться. В этот-то благолепный миг, когда сонного всплеска рыбы довольно, чтобы вздрогнуть, вдруг оглушило близким разрывом, и белый фонтан выплеснул прямо по курсу катера. Матвеич вытянул шею, чтобы поглядеть, где он, этот ранний самолет, откуда взялся? Блеклое рассветное небо было пусто. Тогда он догадался: откуда-то стреляют из пушки. А это могло означать только одно: оттуда, из-за Рынка, немецкие наблюдатели углядели-таки катер на реке. Это было пострашней самолетов. Летящему по плывущему попасть непросто. А недвижному чего? Сиди да указывай. Один снаряд не долетит, другой перелетит, а третий как раз посередке будет.
Матвеич круто положил руль вправо, думая затеряться на фоне острова. Фонтаны разрывов поскакали следом, и он забеспокоился: загонят на мель, добьют. Многие мели знал Матвеич, а все боялся: ну как новая образовалась, река ведь, течение неостановимое.
– Ты тута не чалься, – послышалось в окошке. Из-за переборки высунулась перевязанная голова с большими, то ли от боли, то ли от испуга, глазами.
– Приспичит, куда денешься? – сказал Матвеич, сердясь на непрошеного советчика.
– Нельзя тута, мины.
– Какие еще мины?
– Какие, какие… Сам, чай, ставил, знаю.
– Кой дурак на острове-то ставит?!
– Велено было.
– Ну, дураки! – не мог успокоиться Матвеич. – Там же бабы, на островах-то.
– Баб мы не видели.
– Где хоть ставили-то?
– А вон мысок. Барку видишь? От нее по обе стороны – сплошь мины. А там дальше – окопы.
Мысок Матвеич знал, а вот барку, видно, недавно прибило. Дыры в железном борту да острые обгорелые остатки наверху говорили, что досталось той барке вдоволь всего – и бомб, и снарядов. Не дай бог застрять рядом!
Он отвернул подальше от гиблого места. Еще несколько разрывов громыхнуло в стороне, и все затихло; похоже было, что вся-то Волга теми немецкими наблюдателями не просматривалась. Матвеич огляделся, стараясь засечь на берегах что-либо приметное: опасное место следовало хорошенько запомнить. Теперь-то он твердо знал: Степку искать его не отпустят. Другой же ночью придется опять плыть за ранеными, потом опять и опять: мало судов осталось на переправах, каждое потребно…
В Ахтубу вошли без помех. Сзади, за рекой, творилось что-то несусветное: сплошной гром, как обложная гроза. А здесь было тихо. Казалось бы, что самолету через Волгу-то перепрыгнуть. Но не было самолетов, ни одного. Солнце спокойненько выкатилось в чистое небо, лягушки орали в камышах, будто в мирное время. Матвеич загнал катер в первый же рукав, притерся к берегу поблизости от раскидистой ветлы, чтобы в случае чего не углядели с неба, и вместе с механиком Ведеркиным принялись они помогать сносить раненых по зыбким мосткам-дощечкам. Скоро всех уложили в тенечке, медицинская сестра, что была с ранеными, бросилась искать-выяснять, куда их девать дальше. Ведеркин, покопавшись в моторе, устроился спать прямо на палубе, а Матвеич пошел на берег поглядеть, кто там раненые, нету ли среди них кого знакомого.
Знакомых не нашлось. Работяг, что первыми кинулись обороняться, видно, никого уж не осталось, и были здесь одни только красноармейцы:
– Гороховцы мы, – сообщил ему боец, раненный легко, в руку, и потому словоохотливый. Как не быть словоохотливым, когда все смертные страхи позади – в бою не пропал, на переправе не потонул. Здесь тоже достается – вон сколь всего накорежено бомбами, – ну да авось и тут пронесет.
– Какие такие гороховцы?
– А такие, что лупят немца в хвост и в гриву.
– Оно и видно, – пробурчал Матвеич. – Лупят, а у самих рыло в крови.
– Чего тебе видно? – обиделся боец. – Горохов, командир-то, знаешь какой?
– Ну?
– Пришел, поглядел позицию и говорит: чего, грит, вы тут засели, на том бугре лучше. Так там же, грим, немцы. «При чем тут немцы, взять бугор!» И взяли. А как же! Пошли и взяли.
– Врешь небось.
Раненые, что были вокруг, навострили уши, какие могли начали придвигаться. Кому после боя не хочется послушать о геройском? И Матвеич тоже поймал себя на мысли, что ему тоже радостно слышать такое, хоть бы и привранное.
– Вот те крест! – Раненый шевельнул перевязанной рукой, будто перекрестился. – Истинная правда.
– Ну дай-то бог!
И разом заговорили вокруг, у каждого нашлось что вспомнить.
– Простим ему хвастовство, – степенно сказал пожилой боец, по фуражке, да и по всему виду своему, то ли теперешний командир, то ли бывший учитель. – Он молод, и он прав. – И всем телом, придерживая сплошь перебинтованную ногу, повернулся к Матвеичу: – Вы бы, дедушка, сами сказали.
– А чего говорить? – удивился Матвеич внезапному интересу к своей особе.
– Про свою жизнь расскажите.
– Про жизнь? Можно, чего ж не рассказать. – Подумал, пошевелил губами. – Значится, так: жить я начал давно… – И снова задумался.
– Как родился-женился, – нетерпеливо подсказал кто-то.
– Родился-то? А как, обыкновенно. Под мостом, значит, под Сызранским. Батька на буксире плавал, вот я и родился. А дед бурлачил. Батька был силы непомерной, а про свово батьку сказывал, будто грудь у того была во, как шкаф. А теперь чего? Хлипкий народ пошел, не то что прежде. Я еще повидал. Атаман у нас был в спасательной команде. Это еще до осьмнадцатого года. Дак он, верьте не верьте, один лошадь на лед вытянул.
Матвеич снова замолчал, вспоминая давнее, и тот же раздраженно-нетерпеливый голос поторопил:
– Давай, дед, рассказывай побыстрей.
– А, – махнул он рукой. – Балабоны вы. Делать надо быстро, а рассказывать медленно.
И отвернулся. Подумал, что это боли подгоняют человека к раздражению и нетерпеливости, боли, а не дурной характер. Но снова встревать в разговор не стал.
Охотников повспоминать и без него хватало, каждый, у кого язык не был завязан муками, норовил высказаться, и произошел от этого не степенный разговор, а гвалт базарный. Тут какие-то бабы явились, принесли арбузы. Бахчи были крутом, арбузов в этом году напеклось на сухом солнце множество, а все в радость угощение. Даже недвижные раненые зашевелились, заоблизывали губы. Распластанные ломти с красно-сахаристым нутром вмиг разобрали, и некоторое время вместо разговоров были чмок да посвистывание. А потом опять потянуло поговорить.
– Не, ребята, – заглушил всех низкий насмешливый голос. – Самое потешное было с Нуйкиным. Нуйкин, рассказывай, чего молчишь? Как тебя ранило-то?
Примолкли на миг, и Матвеичу, который уже прилег поблизости, рассчитывая вздремнуть чуток, тоже захотелось обернуться, поглядеть, кто такой этот Нуйкин.
– Молчит, стесняется. Ну, я за него расскажу. Идет он, значит, с донесением, за карман держится. А в кармане что, думаете? Конечно, она, родимая, бутылочка тоись. Где раздобыл – секрет, только берег он ее пуще командирского донесения. А тут налет, рядом ка-ак… Бомба, в общем. Осколками не задело, а доской шмякнуло. Как раз по карману-то, по бутылочке. Ну и порезало ему ногу аж до самой кости.
Зашевелились вокруг, загудели сочувствиями. Не понять только – раненому сочувствуют или бутылку жалеют.
– А чего, доброе ранение, – отозвался кто-то. – Не поганым немецким осколком, а своей же, родимой.
– Опять зашевелились и, видно, кто-то изловчился, принюхался.
– А пахнет еще, ей-богу, пахнет.
– От штанов у раненого завсегда пахнет, – тотчас прокомментировали сообщение. И засмеялись, сдерживая себя, загыкали, заохали, довольные.
– Это смотря чем. У него не то, что у тебя, – водочкой…
Так и не подал голос этот Нуйкин. А иные говорили торопясь, перебивая друг друга, словно это была последняя возможность сообщить о себе. Бабы, что арбузы принесли, сидели помалкивали, комары на солнце не досаждали, тянуло табачным дымком. И бомбы не падали вокруг, немцы забыли воевать в этот час, не слали свои самолеты. Одним словом, благодать, да и только, будто не муки привезли эти люди с того берега, а одни только добрые байки.