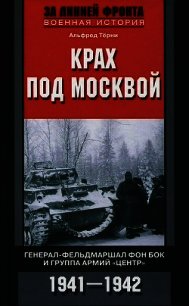Блокадная этика. Представления о морали в Ленинграде в 1941 —1942 гг. - Яров Сергей (бесплатные книги полный формат .txt) 📗
Наиболее пространный документ, содержащий религиозные медитации, – дневник христианского философа Я. С. Друскина («в миру» – преподавателя математики в вечерней школе) – весьма своеобразен и не имеет примеров в блокадной литературе. Он создан в русле иной традиции, нежели дневники других очевидцев «смертного времени». У него иная логика сцепления различных частей текста и необычная терминология. Если там внимание обращено в первую очередь на быт ленинградцев, то здесь главенствующим стал анализ предельно абстрагированной от времени диалектики духа. Содержание записей, сделанных им во время войны, мало отражает реалии тех страшных дней. Можно было попытаться понять их, прояснить их мотивы, подоплеку, причины возникновения, сверив даты записей с датами блокадной эпопеи. Здесь, однако, очень сложно отделить запись как отклик на реальное происшествие и запись как звено в цепочке постоянно усложняющихся и углубляющихся размышлений.
Многие из них кажутся отголоском каких-то других событий, не связанных с осадой Ленинграда.
Не всегда ясно и место какого-либо из тезисов Друскина в общей цепочке его размышлений. Даже отделенные от размышлений «конкретные» записи о том, что произошло с автором в 1941–1942 гг., обычно скупы, глухи и смутны. Его выводы часто неожиданны и не обусловлены предварительным подробным разбором аргументов и контраргументов: здесь впору говорить об озарении.
Первая запись самонаблюдения, в которой непосредственно отражены блокадные реалии, относится к 25 ноября 1941 г. В ней содержится развернутая, педантично разделенная на пункты программа поведения во время осады Ленинграда. 1-е, 4-е и 7-е правила этого кодекса требовали отбросить разговоры и мысли о голоде, не обижаться на других, если они будут говорить и поступать не так, как он считает правильным, и не огорчаться, если придется отказываться от того, что хочется, особенно если это придется делать ради других [1798]. Он нарушил их в тот же день: «Поэтому возникло некоторое уныние: от омерзения к себе. Может это главный источник уныния? Как излечиться от него» [1799]. Позднее Друскин пишет о том, как его везли в стационар, усиленно кормили, оберегали – но эти события не сопровождаются яркими ощущениями, происходят в каком-то тумане; все впечатления раздроблены, оборваны, лишены последовательности, не детализированы.
Опустошенность, внутреннее безмолвие, невозможность сразу «включиться» в повседневный быт – таковы грани его духовного обморока в «смертное время». Нет суетных волнений, нет пороков, страстей – все «очищено». В записи 19 мая 1942 г. Друскин пытается соотнести свои ощущения с Евангелием – это естественно вследствие интенсивного и глубокого переживания религиозных текстов, свойственных всему его дневнику. Найдено точное соответствие – рассказ евангелиста Луки о стаде свиней, бросившихся в море: «Лк. 11.: 24–26. За эти четыре месяца что-то вышло из меня, из всех нас…» [1800]. Друскин использует слова, которые сложно дешифровать с помощью других записей, хотя он и пытается их уточнить, слегка проясняя аналогию: «Вышла некоторая конкретность, конкретность связей людей».
Трудно выявлять логику мысли того, кто намеренно предпочитает не использовать «готовые», привычные слова, а ищет другие, необычные, более адекватно отражающие его состояние. В этом отталкивании от повседневной, доступной всем речи есть нечто близкое к лексическим экспериментам дневниковой «философской» прозы Друскина. И там ощутим поиск какого-то нового языка с другой терминологией, не скованного академической традицией, позволяющего «извлечь» смысл явлений из-под обломков затемняющих его понятий.
Может быть, «конкретность связей» здесь есть символ скрепленных цивилизационными навыками структур человеческого общества – разрыв родственных и социальных отношений, обусловивший последующую деградацию человека, был, как признавали многие, главной приметой «смертного времени».
Далее Друскин делает в дневнике запись, составляющую с предыдущей единое целое именно как последовательное, хотя и чрезмерно краткое изложение результатов самонаблюдения. Запись о том, что пришлось заглянуть «по ту сторону жизни», а вернувшись, сохранить память о потустороннем: «Тени с того света… здесь». Все сжато, обобщено и, однако же, имеет отпечаток какой-то недоговоренности – словно автор опасается вновь вызвать эти тени и пережить то запредельное, чем было отмечено «смертное время». Впечатления о первой блокадной зиме нарочито фрагментированы: «Когда перестал работать… росла жадность. Я чувствовал, как сохнут желания и чувства» [1801]. Но это – и средство самоконтроля, несколько прямолинейного в выявлении цепочки причин и следствий, но четко обозначающего вехи падения.
8
Что произошло с ним? Почему голод так изменил его? Понять это надо, восстановив в памяти этапы деградации. «Об ощущении голода. Три периода: нисходящая линия – все чаще непроизвольные мысли о еде, которые трудно подавить. Но до января все же как-то держался» [1802]. Вечером Друскин пил кофе, недолго спал, «потом писал часов до четырех. Эти четыре часа совершенно не чувствовал голода. В январе падение – плоть победила, но победив, пала – потеряла силу. Это второй период, ощущение голода слабеет, даже не хочется вставать, чтобы поесть, иногда только вдруг отвратительная вспышка жадности, а потом снова безразличие. И в философии [1803]какие-то тени – и вдруг подъем… Третий период. Ощущения голода при выздоровлении снова возрастают, но их можно подавить настолько, что не чувствуешь голода. Голод в первом периоде – ослабление духа из-за ослабления плоти. Аскетизм – в третьем периоде – подавление плоти. Настоящий аскетизм возможен только тогда, когда поймешь святость пищи, а для этого надо пройти первый и второй периоды» [1804].
Дух, плоть, аскетизм, святость, соблазн, грех уныния – в самонаблюдении Друскина используются преимущественно религиозно-психологические понятия. Они четки и ясны в силу стоящей за ними многовековой и коллективной традиции, они непреложны, они с большой определенностью очерчивают границы допустимых компромиссов. Из нагромождения сотен мелочей осадного быта, значение которых сразу трудно было оценить, двусмысленных, ведущих к соблазнам, проступает именно эта религиозная антитеза – дух и плоть; смысл и средства сопротивления распаду становятся тем самым яснее.
Через год Друскин попытается еще раз восстановить картину того, что произошло с ним в «смертное время». Ретроспективные впечатления, лишаясь остроты и хаотичности, становятся более продуманными и более подробными. Реконструируется с большей тщательностью последовательность событий, четче оформляется их причинно-следственная цепочка, описан маятник постигших его взлетов и падений: «В ноябре-декабре 1941 [1805]— „Трактат о мысли“. Здесь была в самых сложных взаимоотношениях ясность и чистота.
Это тоже далеко от земли, но соблазнов не было…В ноябре-декабре я перешел границу… В январе в новый мир вошла погрешность: я потерял часть себя и пришел в соблазн» [1806].
И здесь описание, как и в записи 3 мая 1942 года, как будто бы делится на две части: диагноз болезни и попытки понять ее причины: «Как это случилось? Я видел, как слабеют силы, глохнет звук, гаснет свет, умирает ощущение, отпадают чувства. Я видел покойников на улице, смерть и свою собственную. Я – на границе; и возник соблазн. Появились призраки; люди призраки и миры-призраки. Они появились в действительности: опухшие или высохшие лица…»
1798
Друскин Я. С.Дневники. С. 133.
1799
Там же. С. 134.
1800
Там же. С. 135.
1801
Там же. С. 133.
1802
Там же. С. 135.
1803
Имеется в виду философский трактат, над которым Друскин работал в это время.
1804
Друскин Я. С.Дневники. С. 134.
1805
В тексте дневников опечатка. Исправлена на «1941 г.» в соответствии с приложенной к тексту дневников хронологией жизни и творчества Я. С. Друскина.
1806
Там же. С. 147.