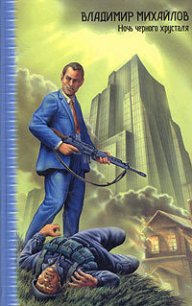Письма крови - Агамальянц Александр (книга жизни TXT) 📗
Ни одна смерть, ни до, ни после, не вызывала во мне каких-либо чувств.
Видимо, я действительно любил эту маленькую шлюшку.
Любил странно, но искренне. До последнего ее вздоха.
Глава пятая
17
Следующий месяц я потратил на поиски достойного учителя фехтования, который бы еще и согласился давать мне уроки в ночное время. Таковых нашлось несколько и, после нехитрого отбора, я остановился на одном – статном поляке, потомку знатной фамилии, вынужденному покинуть родину из-за политических убеждений и не скрывавшему своего презрения к окружающему быдлу, которым он считал практически любого, если тот был не дворянских кровей или не хотел пополнить его крайне тощий кошель. Этот человек был настоящим мастером своего дела, поэтому мог себе позволить говорить правду в глаза, не стесняясь в выражениях, что делал с удовольствием и от чего очень страдал его доход. Но его представления о чести не позволяли приспосабливаться под реалии окружающего мира, наоборот, это мир должен был подстраиваться под волю господина Мариуша. Самое интересное, что мир периодически давал слабину и посылал этому несгибаемом гордецу щедрейшие подарки.
Одним из таких подарков, очевидно, стал и я. Уже на первом занятии я понял, что был слишком самоуверен и все мое превосходство над силой и ловкостью смертных – ничто без развитого тактического мышления. В тех нескольких схватках, где мне пришлось участвовать, победа доставалась только лишь за счет моей относительной неуязвимости и неготовности противника к подобному повороту дел. Пражское чудовище я одолел практически по чистой случайности и с такими последствиями, что, при иных обстоятельствах, победу можно было причислить к пирровым. Взяв же в руки шпагу и попробовав вести бой по человеческим правилам, я почувствовал себя неуклюжим тюленем, пытающимся научиться ходить на своем хвосте, вместо того, чтобы ловко перемещаться в родной стихии. Мой учитель вовсе не стеснялся насмехаться над моей новичковой никчемностью и всячески попрекать. Метод был крайне спорный, но для меня подходил полностью. Одержимый страстью к совершенству во всем, я начал изнурять и себя и его тренировками и засыпать огромным количеством вопросов.
Результат не заставил себя ждать. Вскоре, в моем доме образовалась небольшая коллекция клинкового оружия всех мастей – шпаги, палаши, сабли, кинжалы, все в нескольких вариантах, затесалось даже несколько индийских мечей, которые приглянулись мне за счет своей противоестественной формы. Я изучал все стили фехтования, какие только мог предложить пан Мариуш. Когда его собственных знаний уже не хватало, он отыскал где-то несколько фехтбуков и мы стали совместно штудировать их. Я был очень доволен собой. Все-таки, холодное оружие еще было рано списывать со счетов, и оно действительно являлось очень хорошим инструментом для защиты собственной жизни даже для меня. Раньше я подсознательно опасался возможности схватки с другим бессмертным, теперь же, понимал, что попади мне в руки хотя бы столовый нож, преимущество будет на моей стороне. Плюс ко всему, занятия фехтованием успокаивали меня, позволяли достичь определенной степени ясности мышления, столь необходимой для ведения прочих дел.
Так прошел еще год. Мне все-таки удалось заслужить уважение своего учителя, и мы стали добрыми друзьями. Этой дружбой я очень дорожил, чувствуя в Мариуше родственную душу, в чем-то даже более сильную и достойную, чем моя собственная. По сути, он перенес гораздо больше страданий, чем я, но у него не было возможности сбежать в мир бессмертия и кровавых наслаждений. Как-то я попытался представить Мариуша в роли своего соплеменника. Образ пресыщенного мирскими радостями прожигателя вечности, какими являемся почти все мы, был удушливо тесен этому несгибаемому исполину воли. Скорее мне представлялось, что он сразу же отправится поднимать восстание в своей Польше или отправится воевать за какого-нибудь из европейских императоров, чтобы получить собственный остров в дальних морях. И, если я скрываю свое истинное обличье, более из соображений здравого смысла, нежели страха перед гневом смертных, Мариуш не стал бы делать даже этого. Он показывал бы свое превосходство просто в силу наличия оного. Он не только гордился бы своим бессмертием, но и всячески бы выставлял его напоказ.
Именно это и останавливало меня от того, чтобы приобщить пана Мариуша к нашему роду. Здравый смысл и стремление сохранить и преумножить ту красоту, которая еще осталась в мире, а не разжечь пламя войны, которая пожрала бы все без остатка. Я вовсе не был борцом за мир во всем мире и понимал, что в некоторых ситуациях только грубая сила способна спасти, независимо, идет речь об одном человеке или о целых странах. Но насилие ради насилия претило мне. Я считал, что у каждой войны должна быть какая-то высшая цель, некий священный ореол должен окружать саму идею массового убийства людей. С другой стороны, я прекрасно представлял, какая участь ждет многих из моих собратьев, если люди узнают о нашем существовании. Да, мой друг Вильгельм мог бы с легкостью разорвать в клочья не один десяток смертных, но он, все равно, был художником с тонкой чувственной душой, а не суровым воином. Даже переживи он «охоту на ведьм», все богатство и красота, таящиеся в сознании, были бы безвозвратно утеряны.
И только тогда я в полной мере осознал всю обреченность и безысходность, которые стали неотъемлемой частью моей нынешней судьбы. Только тогда я понял, насколько всеобъемлюще и бесконечно одиночество – мое и подобных мне. Будучи неспособными продолжать род естественным образом, мы, повинуясь каким-то необъяснимым инстинктам, сторонимся своих соплеменников, будто всеми силами стремимся сохранить ту пустоту, что медленно пожирает нас изнутри. Годами. Веками. Тысячелетиями. Рано или поздно она окажется сильнее. Возможно, это реакция какой-то потаенной части нашего естества, понимающей всю противоестественность самого факта нашего существования. Или просто человеческий разум не подготовлен к вечной жизни – все же, перерождаясь, мы сохраняем его, каким он был. Или наши души, застряв по ту сторону жизни и смерти, взывают к нам через эту тоску, моля об упокоении. У меня не было ответа и вряд ли он когда-то появится.
18
Итак, мой ангел, я более не чувствовал себя ярким светилом, богом-солнцем, шествовавшим сквозь вечность в триумфальном сиянии. Увы, я понял, что являюсь в этой вселенной не более, чем гаснущей звездой, саркофагом для собственных чувств и стремлений. Да, я все еще источаю свет, и буду светить еще тысячи лет, а потом мой свет будет виден на другом конце космоса еще миллионы лет. Но внутри все давно покрылось льдом. Не зря же мое сердце потеряло возможность биться самостоятельно в момент окончания прошлой жизни. Да, я могу заставить его работать, но это будет лишь видимость, маскировка для отвлечения внимания. По сути, я ничем не отличался от прочих сородичей – столь же бережно и ревностно защищал свое одиночество, свой саркофаг. Даже в те редкие моменты наших праздников плоти и крови, никто из нас не стремился сблизиться с другими. Мы просто находились в одном месте, не более того. Никакого душевного единения, свойственного людским торжествам, не было и в помине.
Было для меня и загадкой, почему в свое время Вильгельм сделал меня… таким. Был ли это момент душевной слабости, вызванный жалостью? Или он действительно разглядел во мне нечто столь близкое и нужное, без чего не смог бы дальше жить? Или я был для него минутным развлечением, кем-то типа домашнего питомца, которых зачастую заводят, чтобы развеять приступы меланхолии, а потом оставляют на произвол судьбы? Он никогда не говорил, а я так и не решился спросить. Тем более, что в последние несколько месяцев мы довольно сильно отдалились друг от друга. Все время бодрствования, он проводил в своей комнате, обложившись книгами. Первое время я регулярно заглядывал к нему, интересуясь самочувствием и настроением, но всегда получал один и тот же ответ: «Все хорошо, Гете. Скоро это пройдет». Потом я привык. Спустя еще какое-то время единственными признаками жизни, которые подавал Вильгельм, были новые книги, которые периодически он заказывал. Как он питался, для меня было совершенно непонятно и неизвестно, но я не вмешивался.