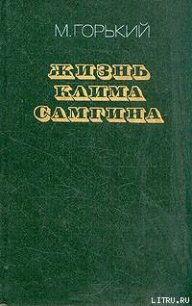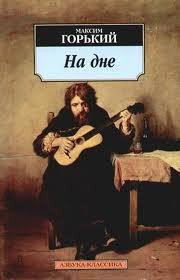Жизнь Клима Самгина (Сорок лет). Повесть. Часть вторая - Горький Максим (электронную книгу бесплатно без регистрации txt) 📗
«Какой искусный актер», – подумал Самгин, отвечая на его деловитые вопросы о Петербурге.
– Так. Значит – красного флага не пожелали? – спрашивал Кутузов, неуместно посмеиваясь в бороду. – Ну, что ж? Теперь поймут, что царь не для задушевной беседы с ним, а для драки.
Дунаев, сидевший против него, тоже усмехнулся, а Кутузов, тряхнув головой, сказал, глядя в стакан чая:
– Урок оплачен дорого. Но того, чему он должен научить, мы, словесной или бумажной пропагандой, не достигли бы и в десяток лет. А за десять-то лет рабочих – и ценнейших! – погибло бы гораздо больше, чем за два дня...
– В Риге тоже много перестреляли, – напомнил Дунаев. Кутузов посмотрел в лицо его, погладил бороду и негромко выговорил:
– Для того и винтовки, чтоб в людей стрелять. А винтовки делают рабочие, как известно.
Лицо Дунаева снова расцвело знакомой Климу улыбочкой.
– Простота! – сказал он.
Кутузов снова обратился к Самгину:
– А – поп, на вашу меру, величина дутая? Случайный человек. Мм... В рабочем движении случайностей как будто не должно быть... не бывает.
Нахмурясь, он помолчал, потом спросил:
– Туробоев – сильно ранен?
В это время пришла Спивак с Аркадием, розовощеким от холода, мальчик бросился на колени Кутузова.
– Приехал, приехал!
Кутузов, ухмыляясь, прижал его мордочку под бороду себе и забормотал в кудрявые волосы:
– Ах ты, Аркашка – букашка – таракашка! Почему ты такая маленькая, а?
– Неправда!
– Тощенькая – тебя даже мухи не боятся.
– Мухи никого не боятся.;. Мухи у тебя в бороде жили, помнишь – летом?
Спивак, изящная, разогретая морозом, шепталась с Дунаевым, положив руку на его плечо.
– Ладно! – сказал он. – Иду!
– Смотрите, – не больше пятнадцати, ну – двадцати человек! – строго сказала она.
Дунаев, кивнув головой, ушел, а Самгину вспомнилось, что на-днях, когда он попробовал играть с мальчиком и чем-то рассердил его, Аркадий обиженно убежал от него, а Спивак сказала тоном учительницы, хотя и с улыбкой:
– Дети отлично чувствуют, когда играют с ними и когда – ими.
Она присела к столу, наливая себе чаю, а Кутузов уже перебрался к роялю и, держа мальчика на коленях, тихонько аккомпанируя себе, пел вполголоса:
– Не хочу скушную! – протестовал Аркадий. – Про хозяина!
– Не угодишь на тебя, Аркашка, – сказал Кутузов
и покорно запел:
Мальчик, хлопая ладонями, тоже распевал:
Спивак, прихлебывая чай, разбирала какие-то бумажки и одним глазом смотрела на певцов, глаз улыбался. Все это Самгин находил напускным и даже обидным, казалось, что Кутузов и Спивак не хотят показать ему, что их тоже страшит завтрашний день.
Через несколько дней он сидел в местной тюрьме и только тут почувствовал, как много пережито им за эти недели и как жестоко он устал. Он был почти доволен тем, что и физически очутился наедине с самим собою, отгороженный от людей толстыми стенами старенькой тюрьмы, построенной еще при Елизавете Петровне. Его посадили в грязную камеру с покатыми нарами для троих, со сводчатым потолком и недосягаемо высоким окошком; стекло в окне было разбито, и сквозь железную решетку втекал воздух марта, был виден очень синий кусок неба. Каждый вечер, перед поверкой, напротив его камеры несовершеннолетние орали звонко всегда одну и ту же песню:
– Ки-ки! – выкрикивали низкие голоса, а высокие, притопывая, пристукивая, чеканили на плясовой мотив:
– Еры!
Эта песня, неизбежная, как вечерняя молитва солдат, заканчивала тюремный день, и тогда Самгину казалось, что весь день был неестественно веселым, что в переполненной тюрьме с утра кипело странное возбуждение, – как будто уголовные жили, нетерпеливо ожидая какого-то праздника, и заранее учились веселиться. Должно быть, потому, что в тюрьме были три заболевания тифом, уголовных с утра выпускали на двор, и, серые, точно камни тюремной стены, они, сидя или лежа, грелись на весеннем солнце, играли в «чет-нечет», покрякивали, пели песни. Брякая кандалами, рисуясь своим молодечеством, по двору расхаживали каторжане, а в тени, вдоль стены, гуляли, сменяя друг друга, Корнев, Дунаев, статистик Смолин и еще какие-то незнакомые люди. Надзиратели держались в стороне, никому не надоедая, можно было думать, что и они спокойно ожидают чего-то. В общем тюрьма вызвала у Самгина впечатление беспорядка, распущенности, но это, несколько удивляя его, не мешало ему отдыхать и внушило мысль, что люди, которые жалуются на страдания, испытанные в тюрьмах, преувеличивают свои страдания.
Слева от Самгина сидел Корнев. Он в первую же ночь после ареста простучал Климу, что арестовано четверо эсдеков и одиннадцать эсеров, а затем, почти каждую ночь после поверки, с аккуратностью немца сообщал Климу новости с воли. По его сведениям выходило, что вся страна единодушно и быстро готовится к решительному натиску на самодержавие.
– Эсеры строят крестьянский союз, прибрали к своим рукам сельских учителей, рабочее движение неудержимо растет, – выстукивал он, как бы сообщая заголовки газетных статей.
Самгин слушал, верил, что возникают союзы инженеров, врачей, адвокатов, что предположено создать Союз союзов, и сухой стук, проходя сквозь камень, слагаясь в слова, будил в Самгине чувство бодрости, хорошие надежды. Да, конечно, вся интеллигенция должна организоваться в единую, мощную силу. Дальше он не разрешал себе думать, у него было целомудренное желание не искать формулы своим надеждам и мечтам. В охранное отделение его не вызывали больше месяца, и это несколько нервировало, но лишь тогда, когда он вспоминал, что должен будет снова встретиться с полковником Васильевьм. Встреча эта разыгралась не так неприятно, как он ожидал.
– Вот и еще раз мы должны побеседовать, Клим Иванович, – сказал полковник, поднимаясь из-за стола и предусмотрительно держа в одной руке портсигар, в другой – бумаги. – Прошу! – любезно указал он на стул по другую сторону стола и углубился в чтение бумаг.
Знакомый, уютный кабинет Попова был неузнаваем; исчезли цветы с подоконников, на месте их стояли аптечные склянки с хвостами рецептов, сияла насквозь пронзенная лучом солнца бутылочка красных чернил, лежали пухлые, как подушки, «дела» в синих обложках; торчал вверх дулом старинный пистолет, перевязанный у курка галстуком белой бумажки. Все вещи были сдвинуты со своих мест, и в общем кабинет имел такой вид, как будто полковник Васильев только вчера занял его или собрался переезжать на другую квартиру. Остался на старом месте только бюст Александра Третьего, но он запылился, солидный нос царя посерел, уши, тоже серые, стали толще. В этой неуютности было нечто ободряющее.
Но еще больше ободрило Самгина хрящеватое, темное лицо полковника: лицо стало темнее, острые глаза отупели, под ними вздулись синеватые опухоли, по лысому черепу путешествовали две мухи, полковник бесчувственно терпел их, кусал губы, шевелил усами. Горбился он больше, чем в Москве, плечи его стали острее, и весь он казался человеком сброшенным, уставшим.