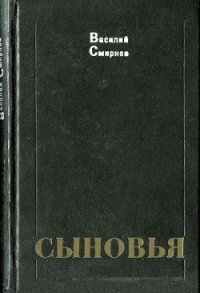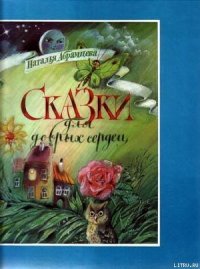Открытие мира (Весь роман в одной книге) (СИ) - Смирнов Василий Александрович (электронные книги без регистрации .txt) 📗
Но коль скоро чтение доходило до шелковых и кружевных платьев, атласных туфель, шкатулок с драгоценностями, танцев и неизменных тайных свиданий какой?нибудь расфуфыренной герцогини со своим возлюбленным, начинались в книжке ахи, вздохи и дурацкие поцелуи, — тут Настя приходила в такое волнение — боязно было на нее смотреть: свистела горлом, скрипела и плакала навзрыд. Шурка поскорей бежал за ковшиком, поил Настю водой. Но и это не всегда помогало. Однажды она прокусила жестяной ковшик, вот до чего расстроилась из?за пустяков.
Шурка не одобрял такие выходки Насти, обижался, что она не понимает самого главного, и жалел ее.
Когда в избушке темнело и читать было нельзя, они разговаривали — каждый о своем.
— Ух, здорово! Кинжалище — в зубы и по канату — в подземелье, как в колодец… до чего отчаянный атаман, — болтал Шурка, отдыхая на скамье, стараясь держать голову прямо. Голова валилась на плечо, как у Никиты Аладьина, потому что шея разламывалась на части. Резало, жгло глаза, щемило между лопатками, — Шурка мужественно терпел, вознаграждая себя приятными воспоминаниями вслух. — Канат, что ужище, обдирает ладошки до крови, а ему все нипочем, знай себе спускается в глубину… «О — го — го! — кричит. — Живы ли, други мои верные? Держитесь, сейчас спасу!» А они уже захлебываются, разбойники?то… вода так и хлещет в подземелье, руки — ноги связаны… Ну, самая погибель пришла.
— Пришла, пришла, — торопливо подхватывала Настя радостным шепотом, — прямо — тка ночью, опосля венчанья, убежала… На балу, слышь, музыка, пир горой, жених винища налакался, с гостями лясы точит. Хвать — где невеста?.. А ее и след простыл — укатила к миленочку… Господи, вот как любят благородные?то люди, не то что мы, серые валенцы!.. Как была в кружевном белом платьице, с вуалью, в цветах и драгоценном ожерелье, в золоченых туфельках, так и упала ему на грудь. «Ах, убей меня! Лучше смерть, чем разлука…» И что же ты думаешь, Шура, милый? На — кося, — подает возлюбленному острый кинжал…
— Эге, кинжал, — бубнил свое Шурка. — Он, атаман, кинжалом — чик — чик… и готово!
— Кого чик — чик? Графиню?!
— Да нет, веревки перерезал… ну, которыми разбойники были связаны в подземелье. Неужто забыла?
— Плевать мне на твоих разбойников. Я говорю, он швырнул кинжал в озеро и страстно обнял графиню… прижал к сердцу… осыпал жгучими по… це… це… — дребезжала вдруг Настя тонкой лучинкой, и Шурка срывался со скамьи, разыскивая впотьмах ковшик, боясь, что не успеет, лучинка сломается и будет плохо.
Стучали о жесть Настины зубы… Но, слава тебе, лучинка продолжала звенеть, выговаривая чужие, глупые слова:
— «Клянусь небом, нас не разлучит и смерть!.. О боже, я твоя навеки!»
Шурка уходил домой, растревоженный и недовольный. Что?то не больно по душе становилось ему наследство Миши Императора. У него было странное ощущение, будто ему положили в рот ландринину, поначалу она казалась сладкой, а вот хрустнул ее, раскусил — одна горечь, хоть выплевывай.
Зато бабка Ольга не могла нарадоваться. Бабка сама прибегала за Шуркой, когда его задерживали уроки или дела по дому, звала посидеть, потешить Настю. Матери это почему?то не нравилось, она хмурилась, говорила, что и заболеть недолго, и не очень ласково привечала бабку.
А та, кланяясь матери, заливалась:
— Уж такой утешитель ненаглядный выискался… читает, ровно поп в церкви, речисто да складно. Ну, как молитву твердит, не запнется, слушать приятственно… Да — а, матушка. Палагея Ивановна, наградил тебя бог сыночком! Такой?то работящий, обходительный. Все?то он умеет, все?то он знает… Настенька моя, доченька несчастная, от евонного ласкового голоса, болтовни его ангельской поправляться зачала. Ай, право, головкой ворочает, скучать перестала… Уж отпусти ты его ко мне, Палагея Ивановна, на недолечко, сделай такую добрую милость!
— Да мне?то что… пусть идет, — отвечала мать и сердито кричала вслед Шурке, когда он плелся за бабкой: — Скоро ужинать… звать не стану, сам приходи!.. Да к кровати?то близко не суйся, смотри у меня!
Бабка угощала Шурку мяконькими кусочками, какие ей иногда удавалось раздобыть, поила можжевеловым суслом, если в горле начинало першить. Она ничего не жалела, даже лампадку зажигала и сама светила Шурке, постоянно каясь, что попортила книжки.
— Кабы я знала, кабы я ведала… Гляди ты, какую силу печатная бумага имеет, почище лекарств, — тихонько бормотала она. — Доктор в больнице ничегошеньки поделать не мог, а ты, ненаглядный мой читарь — расчитарь, говорун божий, эдакие чудеса вытворяешь, ровно святой угодник, право… Полегчало ить Настюшке, веселешенька стала, чутко и видко мне. А веселый человек, Сашутка, всякую хворь выгонит из себя. Не любит хворь веселья, как черт ладану. Это для нее, хвори, самая погибель, веселье?то.
Бабка Ольга плохо слышала и не понимала, что читал Шурка. На самое невероятное у нее оказывался всегда один ответ:
— Бывает… На свете, касатик, все бывает. Свет велик — всякое на ём может приключиться… Опять же злых людей много. А господь терпелив… Ох, грехи, грехи наши!.. Людей, баю, уйма, а человека не скоро сыщешь. И забиралась на печь отдыхать.
А Шурка водил по стене лампадкой, тусклое пятнышко света ползало по серой бумаге, вырывая из темноты мелкие неясные буквы. Они складывались в чужие слова, он произносил их охрипшим голосом, стараясь сделать своими. Но с некоторых пор этого не получалось. Слова оставались чужими.
Он читал про хрустальные бокалы с рубиновым густым, столетним вином да еще с каким?то «букетом», должно из цветов, для вкуса и запаха, читал про серебряные и золотые блюда, на которых подавались кушанья в замке маркиза, а видел совсем другое — жестяной, мятый, с прокусанным краем ковшик с водой, щербатый чугунок на шестке и старую лубяную, с мочалиной вместо дужки, корзинку, с которой бабка Ольга ходила по миру. Он выговаривал, запинаясь, красивые, малопонятные слова о неземном блаженстве и счастье двух любящих сердец, о нежных ласках и клятвах, а слышал ломкий, дребезжащий голосок Насти Королевны, от которой осталась одна голова. Настя с восторгом и слезами повторяла обманчивые слова, и это было страшнее всего, страшнее, чем ее мертвый смех, проклятия Мише Императору и дяденьке Гордею.
Даже похождения знаменитых разбойников и сыщиков мало уже развлекали Шурку. Он не испытывал, как прежде, сладкого ужаса. По правде сказать, какие бы чудеса ни вытворяли разбойники и сыщики, им не поднять с соломы Настю, не вернуть с войны отца, не помирить Шурку с Яшкой и Катькой и уж конечно не сделать так, чтобы в жизни все кончалось благополучно и счастливо, как в выпусках. Вот уж верно говорит Аладьин — пишут складно, а живется неладно… Но ведь есть же все?таки на свете Праведная книга, сам Григорий Евгеньевич сказал, что Шурка подрастет и найдет ее, прочитает. Ах, поскорей бы!..
На печи, согревшись, нахрапывала бабка Ольга. В темное окошко, слабо, тягостно царапался дождь. Проклятая кошка возилась у кровати, наверное опять играла кудельной, беспомощно свалившейся косой и голубенькой ленточкой, завязанной узелком. И не было сил прогнать кошку. Зябли босые ноги — дуло сквозняком с полу, из щелей. Лампадка дразнилась желто — черным насмешливым языком. Вонючая копоть лезла в нос. Надо бы поправить фитиль в лампадке, а не хотелось. Шурка чихал, отмахивался от копоти.
Уставясь в наклеенные на стену, рябые, словно засиженные мухами, листочки, он бубнил что?то о горячих лобзаниях на утре в саду, в беседке, увитой плющом, вокруг распевали соловьи, благоухали розы и журчали фонтаны; он бормотал о радостных свиданиях в мрачную полночь в дремучем лесу, в заброшенной, развалившейся хижине, при зловещем блеске ослепительных молний, диких порывах ветра и оглушительных раскатах грома — и ничему этому не верил.
Когда он оборачивался назад, чтобы немного передохнуть от чтения, он видел в полутьме лоскутное одеяло, разостланное по пустой кровати, кумачовую черную яму подушки, на дне которой лежала отрубленная живая голова с румянцем на белых щеках и светлыми мокрыми глазами. И эта отрубленная живая голова трепетно повторяла: