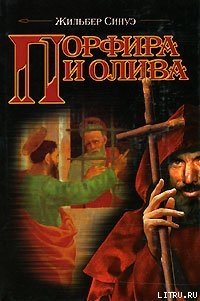Олива Денаро - Ардоне Виола (полные книги .TXT, .FB2) 📗
– Ты не переживай, Амалия, – бросает ей через плечо отец, – это же краска, водой смоется. Вот кровь – ту в жизни не оттереть, сколько не пытайся.
И уходит, оставляя за собой цепочку красных следов.
Я боюсь оставаться в доме, но и бежать вслед по этим багровым отметинам на асфальте страшно. С трудом поднимаюсь, иду в свою комнату, снимаю платье: оно по-прежнему белое, как в ту минуту, когда мы только начинали его шить, но юбка разодрана почти до бедра. Переодевшись в домашнее, я влезаю в сандалии, сую новое платье в старый кожаный ранец, который в детстве носила в школу, и снова выхожу во двор. У стены стоит лопата. Я хватаю её, выкапываю под оливой яму поглубже, потом бросаю туда сумку с платьем, притаптываю, засыпаю землёй да так и остаюсь сидеть, глядя, как фигура отца, удаляясь, становится всё меньше, пока окончательно не растворяется в темноте.
Часть вторая
20.
Его нашли без сознания на съезде с шоссе: шляпа свалилась, рубашка расстёгнута, рука висит. В городе поговаривали, будто он пошёл к Патерно улаживать вопросы чести, даже не взяв с собой оружия. А доктор Провенцано сказал, чудом успели, благодарите Мадонну. Чудеса мне по душе.
Увидев его на больничной койке, мать покачала головой, проворчала:
– Не делай так больше, – и взъерошила ему волосы. Только тогда я, никогда раньше не замечавшая, чтобы она его касалась, поняла, что отец при смерти.
И всё же к середине осени он был ещё жив, хотя с постели не вставал. Говорил привычно мало, а пока мы с Козимино занимались цыплятами, козой или овощами в огороде, беспрестанно глядел в окно. Я ходила собирать улиток, брат охотился на лягушек. Когда он возвращался, мы втроём, мать, Козимино и я, усаживались с ножами в руках вокруг ведра, которое приносили в отцовскую спальню, чтобы составить ему компанию. Козимино начинал с того, что отрезал головы: тяжкое бремя, которое до инфаркта всегда брал на себя отец. Было много крови, которую брат сцеживал в ведро, а тушки передавал мне, чтобы я срезала кончики пальцев – самое простое – и в свою очередь передавала лягушек матери для потрошения. Дело было утомительное, но оно того стоило, поскольку на рынке за потрошёных давали куда больше. Козимино, чтобы нас рассмешить, заводил байку про суд, которую подслушал как-то возле бара. Нас он представлял обвиняемыми на процессе и каждому выносил приговор. Мне – год тюрьмы, я ведь только кончики пальцев срезала. Матери – пятнадцать за тяжкие телесные повреждения. Себе самому – пожизненное заключение, поскольку именно он наносил несчастным тварям смертельный удар. Впрочем, потом судья оправдывал нас в рамках применения закона о самозащите, поскольку, не убей мы лягушек, голод убил бы нас. В итоге, пока отрезанные пальцы и багровые кишки падали в ведро, мы все заливались смехом. Время от времени Козимино косился на отца, надеясь, что и он рассмеётся, но отцовские мысли вечно были заняты чем-то другим: ненадолго остановившись на лягушачьих потрохах, он тут же отводил взгляд и снова глядел в окно – мне чудилось, как раз туда, где я зарыла платье.
На рынок теперь ходил мой брат, однако деньги, вернувшись домой, он всегда оставлял в плетёной корзинке на отцовском прикроватном столике, ведь именно отец был главой семьи.
Доктор Провенцано навещал нас раз в неделю: справлялся о здоровье, выписывал микстуру. Микстуры мне по душе: помню одну, со вкусом черешни, – её в моём детстве принимали от бронхита. Кончилось тем, что как-то ночью я добралась до бутылки и выпила всё до последней капли. Живот крутило – страсть, пришлось даже рвоту вызывать.
Однажды доктор сказал, что отец совершенно излечился, а с постели не встаёт лишь от недостатка воли.
– Это что ещё значит? – подозрительно переспросила мать.
– Наберитесь терпения, после инфаркта может наступать некоторое угнетение духа...
– Да у него отродясь никакой воли не было! Сколько ждать, чтобы он хотя бы прежним стал?
Провенцано, сняв очки, принялся с такой силой тереть костяшками пальцев глаза, будто хотел вовсе от них избавиться.
– Наберитесь терпения, – повторил он и больше не приходил.
21.
Первые несколько недель у наших дверей только что не очередь выстраивалась: едва выйдет один, заходит другой. Дон Иньяцио, Неллина, крестьяне из соседних деревень, а после и местные любители везде сунуть свой нос – все желали разузнать, что произошло. Сердце прихватило, отвечала мать. А они, сочувственно кивая, только головой вертели, на меня поглядывали. Тогда я просила разрешения удалиться, запиралась в комнате и, раскрыв учебник, представляла, что готовлюсь к экзамену по латыни, хотя уроки мои закончились: после случившегося с отцом из училища меня забрали.
«Порядочной девушке никакое свидетельство не нужно», – заявила мать, пряча чёрный халатик.
Ну и пусть, думала я, всё равно он мне тесноват. Потом, читая в учебнике для первокурсников Honesta puella laetitia familiae est, шелестела страницами словаря, чтобы не слышать болтовни в кухне, и, достав тетрадь, старательно выводила: «Порядочная девушка – семье радость». Разве тут поспоришь? Это ведь из-за меня у отца прихватило сердце.
Из всего семейства Шибетта зашла только Мена, тощая. Сказала, мол, мать просит прощения, но они с сестрой недавно подхватили жуткую простуду и теперь, едва оправившись, опасались слечь снова. Без матери и сестры тощая Шибетта казалась не такой уж костлявой. Лишь немногим старше меня, она стараниями матери, вечно причитавшей, что дочь так и останется без мужа, уже превратилась в старуху. Все мы в конечном счёте становимся такими, какими видят нас матери.
– Козимино нет? – спросила она, поправляя шпильку.
– Не бойся, он на рынке, – представив, как робеет Мена, я оправила передник и предложила: – Садись! Хочешь кофе или воды с мятой?
– Спасибо, Олива, не стоит, – ответила она с приязнью, которой раньше не выказывала. – Просто посиди со мной рядом.
Когда нам случалось приходить к ним читать розарий, меня никогда не приглашали на диван, будто мы были разного сорта: мы с матерью и Милуцца – одного, они втроём – другого.
Я подвинула стул ближе. Мена тут же схватила мою руку, положила себе на колени.
– Так что случилось?
Под пальцами шелестела ткань её юбки, которую я сама же в прошлом году и вышивала. Столько работы, но теперь, когда эта вещь больше не была моей, мне было неловко её касаться.
– Сердечный приступ. Козимино нашёл его на шоссе...
– Мне-то могла бы и правду сказать, Олива, – перебила она. – Я ведь тебе почти сестра, а какие между сёстрами тайны?
Я сразу подумала, что ни с кем ещё, даже с Фортунатой, как-никак родной сестрой, не сидела так, рука к руке.
– Не знаю, Мена. О чём ты хочешь услышать?
Её лицо покраснело, заострившись ещё сильнее, глаза заблестели. Похоже, Мена готова была расплакаться, хотя огорчённой не выглядела.
– О поцелуе, – выдохнула она наконец.
– Каком ещё поцелуе? – смутилась я.
– Ну ладно, скажи! Это ведь только между нами.
Я резко отдёрнула руку, снова почувствовав, как скользит под пальцами ткань. Словно в тот день, когда я стежок за стежком её вышивала.
– Да ты просто помолвлена, вот и смотришь теперь на меня сверху вниз. И я, между прочим, с тобой всегда дружить хотела! – Мена принялась заламывать руки, а из-под длинных ресниц полились настоящие, неподдельные слезы.
– Так не было ничего, ни поцелуя, ни помолвки! Я его знать не знаю! Ни я, ни моя семья!
Мена, похоже, была разочарована – и в то же время обрадована, поскольку тотчас приняла обычный заносчивый вид.
– Все говорят, он уехал из города мальчишкой, а вернулся мужчиной, да к тому же красавчиком. Или, может, тебе так не кажется? – поинтересовалась она, отодвинув стул и смерив меня иезуитским взглядом.
Грудь сдавило. Я покосилась на мать, слышит ли, нет, потом, равнодушно сложив руки поверх передника, пожала плечами: