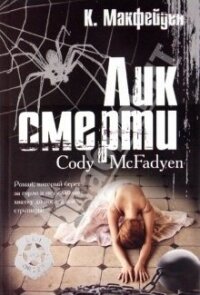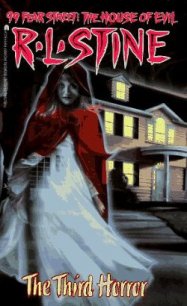Видения Коди - Керуак Джек (читать книги онлайн без txt, fb2) 📗
Первым заметил его Том Уотсон. Том был горбатой акулой бильярда с огромными лунными голубыми глазами святого, крайне печальный персонаж, один из умнейших известных игроков молодого поколения в этих краях. Когда Коди забрел с улицы, вряд ли ему стукнуло больше пятнадцати. Вот только на много лет раньше, в 1927-м, когда Коди родился, в Солт-Лейк-Сити; в то время, когда по какой-то Богооставленной причине, какой-то забытой, жалко американской, беспокойной причине его отец и мать ехали на рыдване из Айовы в Л.-А. в поисках чего-то, может, они прикидывали завести апельсиновую рощу или найти богатого дядюшку, сам Коди этого так никогда и не выяснил, причина давно погребена в печальной груде ночи, причина, что, тем не менее, в 1927-м вынудила их вперяться тревожно и с горлоперехватывающей надеждой над прискорбным прокосом сломанных фар, буро сияющих на дорогу… дорогу, что печалилась во тьму и громадную невероятную американскую ночеземлю, как стрела. Коди родился в благотворительной больнице. Несколько недель спустя рыдван залязгал себе дальше; и вот уже три пары глаз глядели, как на крышку радиатора Па накатывает невыразимая дорога, пока тот непреклонно проницал ночь, словно бедный щит для них самих, маленького семейства Помреев, потерянных, тощий чокнутый отец в обвисшей фетровой шляпой, в которой он выглядел сломанной Оклахомскою Тенью, грезящая мать в хлопчатобумажном платьице, приобретенном в день посчастливей в какой-то возбужденной воскресной пятерочке-десяточке, испуганный младенец. Бедная мать Коди Помрея, что у тебя за мысли были в 1927-м? Так или иначе, но вскоре вернулись они в Денвер по той же грубой дороге; как бы то ни было, ничего у них не вышло, как они хотели; без сомнения, у них была тысяча безымянных напастей, и они в отчаянье стискивали кулаки где-то у дома и под деревом, где что-то пошло не так, скорбно и вечно неправо, довольно, чтоб людей убить; все одиночество, угрызенья и досада на свете нагромоздились им на головы, как презренье с небес. Ох мать Коди Помрея, но было ль тайно в тебе прелестное воспоминанье о воскресном дне еще дома, когда ты была знаменита и любима среди друзей и родни, и молода? – когда, может, увидела своего отца, стоявшего с мужчинами, смеясь, и прошла к нему по прославленному человечьему полу тогда-особенной возлюбленной сцены. Не от нехватки ль жизни, нехватки неотступно-призрачной боли и воспоминаний, нехватки сыновей и хлопот, и униженной ярости умерла ты, или же от избытка смерти? Она умерла в Денвере, когда Коди еще не дорос, чтобы с нею разговаривать. Коди взрослел с детским виденьем ее: она стояла в странном антикварном свете 1929-го (который не отличается от света сегодняшнего дня или того света, когда флоты Ксеркса смущали волны, или Агамемнон возопиял) в некой вроде бы гостиной, где бусы свисали с двери, очевидно, в период жизни старого Помрея, когда тот хорошенько зарабатывал в цирюльном ремесле, и у них был хороший дом. Но после того, как она умерла, он стал одним из самых шатких бродяг Лэример-стрит, тщетно пытался работать и периодически оставлял Коди с родней своей жены, чтобы смотаться в Тексас и так избежать колорадских зим, зарождая тем самым вихрь сезонного бичеванья длиною в жизнь, куда позже втянуло и самого Коди, когда в промежутках, по-детски, он предпочитал оставлять надежность родственников Ма, коя предполагала и дележку спальни со сводным братом, хожденье в школу и мальчуковое алтарствованье в местной католической церкви, ради того, чтобы отвалить и жить с отцом в ночлежках. Ночами давным-давно на драчливых тротуарах Лэример-стрит, когда сезонник Депрессии стекался туда тыщами, иногда в огромных грустных очередях, черных от сажи в дождливой тьме кинохроники Тридцатых, мужчины с трезвыми опущенными книзу ртами сбивались в старых пиджаках, ожидая нищеты в очереди, Коди, бывало, стоял перед переулками, клянча никели, а отец его, красноглазый, в мешковатых штанах, прятался назади с каким-нибудь старым бичевским дружком своим по имени Рекс, который никаким не царем был, а просто американцем, что так и не вырос никогда из мальчишеского желанья лечь на тротуар, чем он круглый год от одного побережья до другого и занимался; вдвоем они прятались, а иногда вели долгие возбужденные беседы, покуда пацан не набирал никелей вдосталь, чтоб составилась бутылка вина, когда наставало время вдарить по винной лавке и спуститься под въезды и железнодорожные насыпи и зажечь там костерок из картонных коробок и гвоздастых досок, и посидеть на перевернутых ведрах или масляных старых древесных пнях, мальчишка – на внешних краях огня, мужчины в его весомом и легендарном сиянье, и попить вина. «Уииоо! Передай-ка мне эту чертову бутылку, пока я голову кому не расшиб!»
И все это, разумеется, было лишь досадою бичей, вдруг становившейся дикой радостью, переключенье от бедной одинокой горести подобных Помрею, кому приходится пенни на углах считать, пока ветер трепал ему дикие грязные волосья над оскаленным, вздутым, недовольным лицом, отвращенье бродяг, рыгающих и чешущих себе одинокие промежности у раковин ночлежек, их мука от пробужденья на чужих полах (если вообще полах) с их безумными умами, кружащими в миллионе беспорядочных образов проклятья и удушенья в мире, что слишком невыносимо отвратителен, так, что его и терпеть нельзя, однако же столь полон бесполезных сладких и безымянных мгновений, от которых они плачут, что не могли б им отказать совершенно, не свершив какого-нибудь ужасного греха, то и дело наседает на них всевозможная кошмарная радость, от которой они подергиваются и изумляются, и ахают, как раньше от видений сердцераздирающего ада, проникающего сквозь жизнь от бессчетных галдящих голосов, орущих в безумье внизу, с жалостливыми воспоминаньями, сладкими и безымянными, что длятся аж до дней пушистой колыбельки, заставляя их всхлипывать, наконец обрекая опускаться на пол разбитых ссален, оборачиваться вокруг горшка и, может, подыхать – убожество это с бутылкой вина извернуто вокруг, как нерв в мозгу старика Помрея, и неимоверная радость поистине могучего пьянчуги наполняла ночь криками и диким пученьем могуче-безумных буркал. На Лэример-стрит его знали как Цирюльника, он время от времени работал возле гостиницы «Грили» в натурально кошмарной цирюльне, которая была знаменита великим неметеным полом бродяжьих волос, да и полкой, прогибавшейся под тяжестью стольких бутылок лавровишневой воды, что можно было подумать, будто лавка эта океанское судно, а парни запаслись ею к полугодовой осаде. В этой пьяной тонзурной писсерии, называемой цирюльней, потому что волосы срезались у тебя с головы сверху от ушей вниз, старый Помрей, с тем же нежным недоуменьем, с каким, бывало, подымал мусорные бочки на городские мусоровозы в метель или передавал разводные ключи в самых что ни есть трагичных, загроможденных, тавотнотемных кузовных мастерских к западу от Миссиссиппи (под названьем «Гараж Арапэхоу», где собственно его только и нанимали), ходил на цыпочках вокруг цирюльного кресла с ножницами и расческой, бритвой и кружкой, чтоб ни в коем разе не споткнуться, и срезал волосы с черношеих сезонников, у кого до того обширные траурные личности, что они по такому крупному случаю иногда сидели чопорно по стойке «смирно» час напролет. Коди-ст. был изысканный джентльмен.
«Ну так скажи, Коди, как оно в гостинице обстоит нынче летом; кто-нибудь из знакомых кони двинул или вообще кто, или видел ли Дэна у Чилийца Джека?»
«Не могу сейчас разговаривать, Джим, пока эту сторону головы Боба не доделаю – посиди-ка тихонько секундочку, пока я шторку тут подыму».
И великие громадные часы оттакивали тусклые старые минуты, а юный Коди сидел в печном углу (в холодную погоду), читая страницы с комиксами, не только читая их, но изучая часами лицо и брюшко Майора Хупла, его феску, бедные смешные мягкие кресла у него в доме, печальные тошнотворные лица его недоброжелателей, которые всегда, казалось, только что доели за столом, весь этот жалкий интересный мир позади него включая, может, только слабое облачко вдали, или птичку, нагреженную одной волнистой линией над дощатым забором, и вечное таинство пузырей диалога, занимающих под речь целые шматы зримого мира; а еще «В нашем захолустье», тряпично-кукольные скорбные ковбои и фабричные рабочие, что вечно, похоже, жуют плюхи комковатой пищи и жалко обертываются вокруг заборных столбов под огромными прискорбными бременами шутки; однако самым пылающим из всех облаков, облаков, что в карикатурном небе располагали всею ностальгией сладкой и призрачной дали, какую им давали картинки, однако были все теми же потерянными облаками, что вечно привлекали внимание Коди к его бессмертной судьбе, когда внезапно увидишь ее из окна или сквозь дома июньским днем, ягнячьи облачка младенчества и вечности, иногда позади за громаднейшими краснокирпичными дымовыми трубами, которые сделаны так, что они вроде как путешествуют и падают в первый и последний день мира и его сонных бабочек; отчего он думал: «Бедный мир, которому для дней непременно нужны облака и луга, что я потерял»; иногда занимаясь этим либо глядя на грустные буроватые или зеленоватые картинки обеспокоенных любовников в чувственных гостиных журнала «Правдивые исповеди», его предвкушенье тех дней, когда он вырастет и бесполезные часы станет проводить, разглядывая нудистские журналы у газетного ларька на углу; хотя иногда лишь устремив глаза на мозаику плиток на полу цирюльни, где он издавна воображал, что каждый квадратик можно бесконечно отгибать, один крохотный листик за другим, выявляя в микроскопической энциклопедийке полную историю каждой личности, что когда-либо жила от самого что ни есть начала, все это зрелище ослепительное, когда он подымал взгляд от одной плитки и видел все остальные, словно слепящую чокнутую громадную бесконечность плывущего мира. В теплую погоду он сидел на тротуаре на ящике между цирюльней и кинотеатром, который был до того совершенно бит, что назвать его можно было разве что категорией С или даже D; «Каприччо», с мошками пыльного солнца, сплывавшими вниз мимо реек кассы в сонникальной середине дня, дама билетная грезила от совершенно нечего делать, а из волглой пасти кинотеатра, прохладной, темной, надушенной сиденьями, где спали бичи и пялились мексиканские детишки, ревели выстрелы и бой копыт великого мифа об Американском Западе, представляемом всадниками с мешковатыми глазами, что слишком много пили в барах бульвара Энсьенега, галопируя в лунном свете, снимаемые с задка грузовика на грунтовках Калифорнии, с жалким человечьим сюжетом, который, как думаешь иногда, вправлен сюда для того, чтобы никто не замечал, кто эти всадники на самом деле. Что за разочарованья чувствовал маленький Коди оттого, что у него никогда не было дайма или одиннадцати центов на то, чтобы посмотреть сеанс; даже пенни иногда не было потратить всякий раз, что ему хотелось, на выбор шоколадного батончика с прелестной загроможденной стойки в бедной тусклой кондитерской лавке, которой заправляла старая сирийка в шали, где еще были целлулоидные игрушки, собиравшие пыль, как те же самые бессмертные облака, что проходили над улицей снаружи; то же разочарованье ощущал он в те ночи, когда сидел среди хаха-чущих резких воплений тех бичей под мостом с бутылкой, когда знал, что мужчины, бывшие нынче ночью богачами, братья ему, но братья они такие, кто его позабыл; когда знал он, что все воодушевленные деянья жизни, включая сюда и самые убогие доставанья ночного вина его отцом и Рексом, ведут к могиле, и когда вдруг за железнодорожными сортировками горная тьма, населяемая великими звездами, где тем не менее и поразительно в последних зависших сумерках одинокое пламя солнца ныне творило долгие тени в Пасифике, медлило в вышине на могучей стене Бэрту, а мир медленно вращался, Коди было слышно, как у подножья грубого горного провала двойно пыхтит локомотив «Денверской и Рио-Гранде», чтоб начался поездной приказ взбираться на росы, сосны Бэнкса, засушливые ветреные высоты горной ночи, таща за собою бурые товарные вагоны мира к дальним разъездам, где ждали одинокие мужчины в дождевиках, к новым городкам дыма и обжорок, насколько знал он, сидя в драных тапках, застрявши на масленом дворе и среди закопченных оков судьбы своей, к туманам и кораблям блистающего Сан-Франсиско. О маленький Коди Помрей, вот бы хоть какой-нибудь способ послать тебе клич, хоть и был ты слишком мал, чтобы понимать, зачем в этой темной печальной земле изреченья и кличи, с ужасами твоими в мире столь злокачественном и бесприютном, и все оскорбленья с небес таранят вниз, венчая голову твою гневом, болью, позором, худшею сраной нищетою и внутри, и снаружи каждой занозистой двери дней, если бы кто-нибудь только мог сказать тебе тогда и заставить тебя воспринять: «Бойся жизни, но не умирай; ты один, все одни. О Коди Помрей, тебе не выиграть, тебе не проиграть, все эфемерно, все больно».