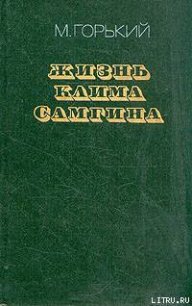Жизнь Клима Самгина (Сорок лет). Повесть. Часть первая - Горький Максим (читать книги полностью без сокращений бесплатно .TXT) 📗
Она говорила быстро, ласково, зачем-то шаркала ногами и скрипела створкой двери, открывая и закрывая ее; затем, взяв Клима за плечо, с излишней силой втолкнула его в столовую, зажгла свечу. Клим оглянулся, в столовой никого не было, в дверях соседней комнаты плотно сгустилась тьма.
– Что ты смотришь? – спросила мать, заглянув в лицо его.
Клим нерешительно ответил:
– Мне показалось, тут кто-то был... Мать, удивленно подняв брови, тоже осмотрела комнату.
– Ну, кто ж мог быть? Отца – нет. Лидия с Митей и Сомовыми на катке, Тимофей Степанович у себя – слышишь?
Да, наверху тяжело топали. Мать села к столу пред самоваром, пощупала пальцами бока его, налила чаю в чашку и, поправляя пышные волосы свои, продолжала:
– Я тут сидела перед печкой, задумалась. Ты только сию минуту пришел?
– Да, – солгал Клим, поняв, что нужно солгать. Играя щипцами для сахара, мать замолчала, с легкой улыбкой глядя на пугливый огонь свечи, отраженный медью самовара. Потом, отбросив щипцы, она оправила кружевной воротник капота и ненужно громко рассказала, что Варавка покупает у нее бабушкину усадьбу, хочет строить большой дом.
– Он, очевидно, только что пришел, но я все-таки пойду, поговорю с ним об этом.
И, поцеловав Клима в лоб, она ушла. Мальчик встал, подошел к печке, сел в кресло, смахнул пепел с ручки его.
«Мама хочет переменить мужа, только ей еще стыдно», – догадался он, глядя, как на красных углях вспыхивают и гаснут голубые, прозрачные огоньки. Он слышал, что жены мужей и мужья жен меняют довольно часто, Варавка издавна нравился ему больше, чем отец, но было неловко и грустно узнать, что мама, такая серьезная, важная мама, которую все уважали и боялись, говорит неправду и так неумело говорит. Ощутив потребность утешить себя, он повторил:
«Ей стыдно еще».
Это было единственное объяснение, которое он мог найти, но тут память подсказала ему сцену с Томилиным, он безмысленно задумался, рассматривая эту сцену, и уснул.
События в доме, отвлекая Клима от усвоения школьной науки, не так сильно волновали его, как тревожила гимназия, где он не находил себе достойного места. Он различал в классе три группы: десяток мальчиков, которые и учились и вели себя образцово; затем злых и неугомонных шалунов, среди них некоторые, как Дронов, учились тоже отлично; третья группа слагалась из бедненьких, худосочных мальчиков, запуганных и робких, из неудачников, осмеянных всем классом. Дронов говорил Климу:
– Ты с этими не дружись, это всё трусы, плаксы, ябедники. Вон этот, рыженький, – жиденок, а этого, косого, скоро исключат, он – бедный и не может платить. У этого старший братишка калоши воровал и теперь сидит в колонии преступников, а вон тот, хорек, – незаконно рожден.
Клим Самгин учился усердно, но не очень успешно, шалости он считал ниже своего достоинства, да и не умел шалить. Он скоро заметил, что какие-то неощутимые толчки приближают его именно к этой .группе забракованных. Но среди них он себя чувствовал еще более не на месте, чем в дерзкой компании товарищей Дронова. Он видел себя умнее всех в классе, он уже прочитал не мало таких книг, о которых его сверстники не имели понятия, он чувствовал, что даже мальчики старше его более дети, чем он. Когда он рассказывал о прочитанных книгах, его слушали недоверчиво, без интереса и многого не понимали. Иногда он и сам не понимал: почему это интересная книга, прочитанная им, теряет в его передаче все, что ему понравилось?
Однажды незаконнорожденный, скуластый и угрюмый мальчуган, фамилия которого была Иноков, спросил Клима:
– Ты читал Ивангоэ?
– Айвенго, – поправил Клим. – Это написал Вальтер-Скотт.
– Дурак, – презрительно сказал Иноков. – Что ты всех поправляешь?
И, криво усмехнувшись, предупредил:
– Смотри, вырастешь – учителем будешь. Мальчики засмеялись. Они уважали Инокова, он был на два класса старше их, но дружился с ними и носил индейское имя Огненный Глаз. А может быть, он пугал их своей угрюмостью, острым и пристальным взглядом.
Избалованный ласковым вниманием дома, Клим тяжко ощущал пренебрежительное недоброжелательство учителей. Некоторые были физически неприятны ему: математик страдал хроническим насморком, оглушительно и грозно чихал, брызгая на учеников, затем со свистом выдувал воздух носом, прищуривая левый глаз, историк входил в класс осторожно, как полуслепой, и подкрадывался к партам всегда с таким лицом, как будто хотел дать пощечину всем ученикам двух первых парт, подходил и тянул тоненьким голосом:
– Н-ну-ус...
Его прозвали – Гнус.
Почти в каждом учителе Клим открывал несимпатичное и враждебное ему, все эти неряшливые люди в потертых мундирах смотрели на него так, как будто он был виноват в чем-то пред ними. И хотя он скоро убедился, что учителя относятся так странно не только к нему, а почти ко всем мальчикам, все-таки их гримасы напоминали ему брезгливую мину матери, с которой она смотрела в кухне на раков, когда пьяный продавец опрокинул корзину и раки, грязненькие, суховато шурша, расползлись по полу.
Но уже весною Клим заметил, что Ксаверий Ржига, инспектор и преподаватель древних языков, а за ним и некоторые учителя стали смотреть на него более мягко. Это случилось после того, как во время большой перемены кто-то бросил дважды камнями в окно кабинета инспектора, разбил стекла и сломал некий редкий цветок на подоконнике. Виновного усердно искали и не могли найти.
На четвертый день Клим спросил всезнающего Дронова: кто разбил стекло?
– А тебе зачем? – недоверчиво осведомился Дронов. Они стояли на повороте коридора, за углом его, и Клим вдруг увидал медленно ползущую по белой стене тень рогатой головы инспектора. Дронов стоял спиною к тени.
– Не знаешь? – стал дразнить Клим товарища. – А хвастаешься: я все знаю. – Тень прекратила свое движение.
– Конечно – знаю: Иноков, – вполголоса сказал Дронов, когда Клим достаточно раздразнил его.
– Ему надо честно сознаться в этом, а то из-за него терпят другие, – поучительно сказал Клим.
Дронов посмотрел на него, мигнул и, плюнув на пол, сказал:
– Сознается – исключат.
Нетерпеливо задребезжал звонок, приглашая в классы.
А на другой день, идя домой, Дронов сообщил Климу:
– Знаешь, кто-то выдал его.
– Кого? – спросил Клим.
– Кого, кого, – что ты гогочешь? Инокова.
– Ах, я забыл.
– Сейчас же после перемены вчера его и схапали. Выгонят. Узнать бы, кто донес, сволочь.
Клим действительно забыл свою беседу с Дроновым, а теперь, поняв, что это он выдал Инокова, испуганно задумался: почему он сделал это? И, подумав, решил, что карикатурная тень головы инспектора возбудила в нем, Климе, внезапное желание сделать неприятность хвастливому Дронову.
– Это ты виноват, ты болтал, – сердито сказал он.
– Когда это я болтал? – огрызнулся Дронов.
– А в перемену, мне?
– Так ведь не ты выдал? У тебя и времени не было для этого. Инокова-то сейчас же из класса позвали.
Они остановились друг против друга, как петухи, готовые подраться. Но Клим почувствовал, что ссориться с Дроновым не следует.
– Может быть, подслушали нас, – миролюбиво сказал он, и так же миролюбиво ответил Дронов:
– Никого не было. Это какой-нибудь одноклассник Инокова донес...
Пошли молча. Чувствуя вину свою, Клим подумал, как исправить ее, но, ничего не придумав, укрепился в желании сделать Дронову неприятное.
Весною мать перестала мучить Клима уроками музыки и усердно начала играть сама. По вечерам к ней приходил со скрипкой краснолицый, лысый адвокат Маков, невеселый человек в темных очках; затем приехал на трескучей пролетке Ксаверий Ржига с виолончелью, тощий, кривоногий, с глазами совы на костлявом, бритом лице, над его желтыми висками возвышались, как рога, два серых вихра. Когда он играл, язык его почему-то высовывался и лежал на дряблой бритой губе, открывая в верх- . ней челюсти два золотых зуба. А говорил он высоким голосом дьячка, всегда что-то особенно памятное и так, что нельзя было понять, серьезно говорит он или шутит.