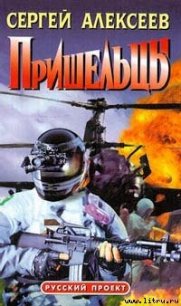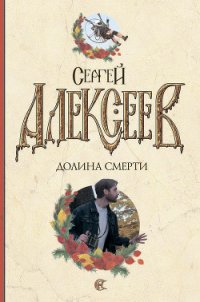Таежный омут (сборник) - Алексеев Сергей Трофимович (книги бесплатно без TXT) 📗
— Пойдем, хватит, — срывающимся шепотом сказал Сашка и повлек Марию, — попели и хватит…
Они выбрались на улицу и пошли вдоль палисадников. Из-за домов поднималась поздняя, ущербная луна, изредка взлаивали собаки, а за спиной несмолкаемым пчелиным гудом шумело игрище. Неподалеку от дома он остановил Марию, снял с ее плеч аккордеон и сказал с непререкаемой решительностью:
— Ты вот что, Мария. Выходи-ка за меня замуж. Говорят, мы пара с тобой. А раз так — чего думать?
— Мать спросить надо, — боязливо проронила Мария. — Мать строгая.
— По-моему, они уже договорились раньше нас, — сказал он и взял аккордеон под мышку. — Айда, прямо сейчас и спросим.
Едва они вошли в калитку, как навстречу вышел Кулагин. Из-за его спины выглядывала перепуганная Великоречаниха. Дмитрий оглядел Сашку с Марией, остановил взгляд на аккордеоне, дернул щекой.
— Уполномоченный из области за тобой приехал, — сказал Кулагин. — Чтоб завтра утром в сельсовете был. Строго-настрого приказано.
И прошел мимо, зацепив плечом воротный столб…
Свадьбу не играли. Шнары попросту перенесли свои пожитки в избу Великоречаниных и стали жить одним домом. Поговорили, посудили в Чарочке о столь необыкновенном событии и скоро привыкли. Да не этого опасался Сашка, не это тревожило его и доводило до исступления Марию. Через год, так и не дождавшись беременности, она ушла пешком в районную больницу. А вернулась будто в воду опущенная.
— Пойди ты, — просила она его. — Может, вылечат.
— Нет, видно, уж не вылечат. Не ходок я по больницам. Изломали меня там, искорежили — лечить нечего…
Великоречаниха нашла бабку-знахарку в соседней деревне, та пользовала его травами, настойками, заговорами-заклинаниями — ничего не помогало. Сашка мрачнел. В самом начале обнадежив себя, что вот-вот сможет преодолеть еще одну полосу отчуждения от жизни, пожалуй, самую главную, он теперь не мог свыкнуться с мыслью о бездетности. Великоречаниха с Кристиной тихонько вздыхали, соглашаясь по-стариковски со своей участью (бог не дает дитя), и с неистребимой, тайной надеждой поглядывали на живот Марии: а ну как свершится чудо?
Но дольше и безутешней всех переживала Мария.
— Господи, почему же так несправедливо? — с горячей безысходностью шептала она по ночам, уткнувшись лицом в плечо мужа и от волнения путая русские и немецкие слова. — Что они с тобой наделали? Почему я должна расплачиваться?
Одно время Сашка начал бояться, что Мария уйдет от него. Потом он хотел этого сам, грубил ей, напившись, пробовал устроить скандал и несколько раз уходил жить в старую кузню. Мария все стерпела. И лишь незадолго до смерти, когда она, тяжелобольная, разбитая работой, несколько месяцев не вставая, лежала в постели, на ее морщинистом лице вдруг возникла лукавая, с горьковатиной, улыбка:
— Эх, дура я, дура. Мне надо было, как деве Марии… От святого духа… И не узнал бы ведь?
— Я те дам, — хмуро ответил Великоречанин. — Узнал бы — убил.
Она тоненько и счастливо рассмеялась.
А тогда утром Великоречаниха с Марией проводили Сашку в сельсовет, сели на крыльцо возле порога и стали ждать, что будет. На всякий случай они принесли с собой узелок с провизией и смену белья, хотя всю дорогу мать будто клятву твердила, что не отдаст сына. Пусть делают с ней что хотят — не отдаст. Мария помалкивала, кусала губы, большие, мужские руки ее, сжимающие узелок, белели казанками пальцев, сомкнутых в кулаки.
Его никуда не увозили. Уполноуоченный — военный с погонами майора, — попросив всех из председательского кабинета, в том числе и Кулагина, заперся с Великоречаниным и проговорил с ним три часа кряду. Вернее, больше говорил Сашка, уполномоченный слушал и ничего не записывал. Великоречанин (уже в который раз с момента освобождения) рассказал ему все, что было в плену. Он говорил, удивляясь про себя, что ничего не забыл. Уполномоченный майор спросил напоследок, может ли он узнать палачей в лицо, если ему их покажут, и, удовлетворенный ответом, уехал в этот же день.
До самой осени Сашку больше не тревожили, и он уж начал забывать о майоре. Видно, захотелось кому-то, думал он, узнать, что было за колючей проволокой. Узнали — и успокоились. Однако в конце октября, перед праздниками, в Чарочку приехал участковый и через Кулагина вызвал его прямо с работы.
— Приказано доставить в район, — сказал участковый. — Собирайся.
Великоречанин рассчитывал уехать не замеченным матерью и Марией. Но те прознали, прибежали с фермы в сельсовет, когда он с сидором в руках садился в кошевку. Мать повисла на участковом, вцепилась в портупею.
— Не отда-ам! — кричала она — Убейте лучше меня — не отдам!
Мария упала в ноги милиционеру, схватила его за полу шинели:
— Оставьте! Не увозите! Как бога, молю вас!
— Что вы шумите? Ну что? — озираясь по сторонам, Сашка пытался оттащить женщин. — Народ же смотрит, нехорошо.
Участковый растерялся и, пытаясь поднять на ноги Марию, бормотал, что никуда Великоречанин не денется, что его привезут назад, и нечего здесь волноваться.
— Знаю я, как вы привезете! — запричитала мать. — Коль возьмете — с концом. А он у меня не раз братый: и на действительную, и на войну… Третий раз-то уже не вернется…
— Перестань, мать! — прикрикнул Сашка. — Рано оплакивать. Вернусь я, вернусь.
— Тихо, вы, — пытался урезонить Кулагин. — Не мешайте работнику. Он при исполнении.
— Куда хоть увозите? — взмолилась Мария. — Где искать его?
— Да я сам толком не знаю, — отбивался участковый, садясь в кошевку. — Говорят, на суд. Будто суд какой-то состоится.
Он тронул лошадь. Мария, застыв, осталась стоять возле сельсовета, а мать долго еще бежала, вцепившись в спинку кошевки. Когда они выехали за деревню, участковый перевел коня на шаг и, вытирая потный лоб, покачал головой:
— Ну и женщины у тебя. Чего они напугались-то?
— Они давно пуганые, — проронил Сашка. — Много ли надо, чтоб напугать…
В районе его встретил тот самый майор, что приезжал в первый раз, встретил приветливо, угостил чаем, спросил о житье.
— Помаленьку, — сказал Сашка. — Женился.
— Жену зовут Анна-Мария Шнар? — улыбнулся майор.
— Да… Немка она… А что? — Он посмотрел настороженно, недоверчиво.
— Нет, ничего! — поспешил успокоить майор. — Просто думаю, как оборачиваются судьбы… А дело к вам такое, Александр Тимофеич. Придется ехать. Далеко. На прародину вашей Анны-Марии — в Германию, в Нюрнберг.
— Зачем — в Германию? — вздрогнул Сашка. — Хватит с меня Германии.
— Надо ехать, — твердо произнес майор. — Будем судить фашистского зверя. Вас вызывают на процесс как свидетеля.
— Только отпишите мне домой, — попросил Сашка. — А то переживают там.
— Сами напишите, — сказал майор. — Немедленно.
После ухода Горелова старик Кулагин вышел на улицу и стал искать свой бич. Обшарил, исходил всю территорию возле двора, раскатал бревна, проверил ногами траву и даже разваленную Фомой поленницу — кнут словно сквозь землю провалился. Хоть иди к следователю и заявляй о краже. Не могли же его коровы утащить или сжевать! Плюнув, он вернулся во двор, взял Мишкин — коротковатый, жесткий, плетенный из кордовой нити, выдранной из старых автопокрышек. Однако едва оказался на улице, как незаметно для самого себя снова начал искать. Жалко все-таки терять. Сам плел, и не из какой-нибудь заразы, а из сыромятины. Четыре новеньких гужа пустил на бич. Вымочил сначала в дегте, просушил, отмял и сплел по-старинному, вкруговую, на медных паяных колечках между коленцами, с кистями у древка и длиной в две сажени. От одного щелчка любая сонливая баба в деревне проснется, любая корова, как солдат в строю, ногу держит.
Он еще раз дал несколько кругов возле двора, расталкивая скот, пробрался к дымокуру — пусто. Коровы, чуя пастуха, начинали подниматься и рассеиваться по поляне, несколько телок, задрав трубой хвосты, понеслись к реке. Только бык Фома подремывал возле кучи холодной золы, и густая зеленая слюна сочилась на землю. А старик Кулагин, опустив голову и машинально осматривая битую скотом траву, пошел вдоль бывшей деревни. Не так уж было жалко кнута, как самого себя. Все чем-то занимаются, что-то им надо, а он один ходит туда-сюда и будто не у дела. И что-то нервничают все, шумят, чуть до драки не доходят. Ладно, Иван выпивший, ему шлея под хвост попала, ну а следователь-то с чего? С чего ходит, желваками играет? Будто одному Кулагину по нутру, что Бес помер. Если разобраться, то Беса где-то и жалко. Как-никак, человек, однако не такой, чтобы из-за него, как на токовище, распри устраивать. Всем известно, где он в войну отсиживался. Разве не обидно за других, которые с фронта не пришли, а за калек — не обидно? Слишком легко научились прощать. Время прошло, и будто позабывали. Конечно, Горелову с Иваном что, они войны-то не видали, потому и судят так. Иван, наверное, забыл, как безотцовщиной рос, как с тринадцати лет мужиком стал и у того же Беса молотобойничал. Легко прощаем, легко. Советская власть на радостях простила. Не зря в газетах пишут, самая гуманная власть. Что ей зло держать, отпустила с миром, живите, дескать, да смотрите, как мы без вас обошлись. Может, совесть проймет. Ну, а фронтовикам-то век нельзя прощать. Иначе, ох, худо будет! Молодежь-то все видит, а чему научится? Доведись опять война, так, выходит, и в плен можно пойти? Ничего ведь, Бес-то пережил — и хоть бы что ему. Иван, дурья голова, чуть ли не с почестями хоронить собрался. И Мишку к себе притянул. Наоборот бы, пацану глаза открыть и растолковать, что почем. Так нет же, слишком добренькие стали, боимся лишний раз правду в глаза сказать. Все вертимся, крутимся, будто виноваты в чем. Ишь что Горелов сказал — несправедливо, дескать, с Бесом обошлись. А что его теперь — под залпы хоронить? Несправедливо… Небось ему и гроб делают, а тех мужиков, которые на фронте головы сложили, без всяких гробов хоронили. В гимнастерочках, в исподнем, бывало, в яме, в снарядной воронке… Это что, справедливо? Знал бы Иван, как его тятьку похоронили, так не пошел бы домовину строгать. А теперь гляди-ка, что выходит: все около Беса хлопочут, заботятся, Кулагин же, выходит, один поперек стоит. Друг перед другом доброту показывают и в толк не возьмут, как мы за такую доброту в сорок первом поплатились.