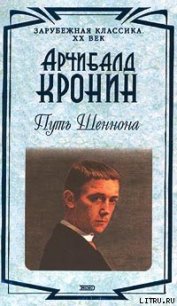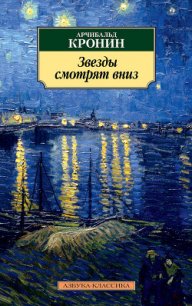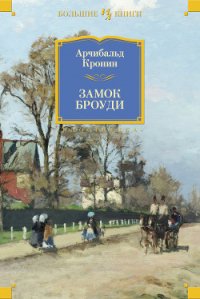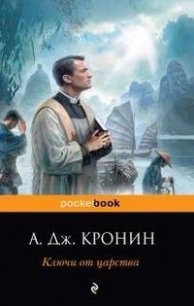Юные годы. Путь Шеннона - Кронин Арчибальд Джозеф (мир книг TXT, FB2) 📗
– Ну, ну, разве можно так легко сдаваться. Посмотрим, может быть, что-нибудь и придумаем.
Улучив минуту, когда путь был свободен, он спустился в погреб, помещавшийся за чуланчиком, и принес деревянный ящик, полный старых гвоздей и болтов; там же валялись дверные ручки и заржавевшие коньки; все это – поскольку ничто, повторяю, ничто никогда не выбрасывалось в «Ломонд Вью» – скопилось тут за многие годы. Дедушка уселся в свое кресло (тогда как я сидел в одних носках на полу) и, попыхивая трубкой, принялся с помощью ключа прилаживать самую маленькую пару коньков «Акме» к моим ботинкам. Огорчению моему не было границ: я видел, что у него ничего не получается. Но когда, казалось, всякая надежда была потеряна, дедушка вдруг обнаружил на самом дне ящика пару деревянных коньков, на которых каталась в детстве Кейт. Вот радость-то! Мы привинтили их к каблукам моих ботинок; выяснилось, что они мне в самую пору. Правда, у нас не нашлось ремней, чтобы прикрутить их, но у дедушки было сколько угодно крепких веревок, которые вполне могли заменить ремни. Он отвинтил коньки, я надел ботинки, и, радостные и оживленные, мы направились к пруду.
Какая приятная, веселая картина: на ледяном поле в полмили длиной и в четверть мили шириной весело носились, то сгибаясь, то разгибаясь, конькобежцы – они выполняли замысловатые фигуры, сталкивались, падали и снова вставали; под ясным голубым небом хрустел разрезаемый коньками лед и звенели голоса катающихся.
Дедушка приладил мне коньки и принялся терпеливо, чрезвычайно учено наставлять меня, как надо сохранять равновесие. Он скользил рядом со мной, направляя и поддерживая меня, пока я не выучился держаться сам. Тогда он вернулся на берег, раскурил трубку и вместе с мистером Боагом и Питером Дикки принялся наблюдать за мной.
В восторге от этого нового способа передвижения, я тем не менее с трудом ковылял по льду. В одном из уголков пруда, где было потише, какие-то искусные конькобежцы положили на лед апельсин – яркое пятно на сером, однообразном фоне – и выделывали разные фигуры вокруг него. Среди них была мисс Джулия Блейр, а также, к моему удивлению, Алисон Кэйс и ее мать – обе они катались очень прилично. Но вот Алисон заметила меня и, подъехав ко мне, взяла меня крест-накрест за руки. Подражая ей и стараясь соразмерить свои движения с ее движениями, я заскользил по кругу, и даже совсем неплохо. Я стал благодарить Алисон, но она лишь улыбнулась в ответ, слегка пожала плечами и помчалась назад к своей маме и апельсину. За все время, пока мы делали круг по пруду, она не произнесла ни слова.
Через некоторое время дедушка поманил меня к берегу и со своей таинственной улыбкой спросил:
– Ну как, нравится?
– Ох, дедушка, замечательно, просто замечательно!
А поздно вечером, уже засыпая, я подумал… Ну зачем мне, в конце концов, чтоб вокруг меня суетились официанты! Вот дедушка взял старые коньки и привязал их к моим ботинкам обрывками веревки – а сколько удовольствия я от этого получил! Жаль только, что я не встретил на пруду Гэвина. Да, бабушка, завтра я буду умницей. Не сердитесь на меня за то, что я такой неблагодарный, обещаю вам, что буду теперь помнить все ваши благодеяния. А сейчас… сейчас я хочу спать.
Глава 8
В тот год весна была ранняя, и три каштана, росшие перед домом, закивали своими белыми султанами мальчику, ошалевшему от чувства свободы, опьяненному предвкушением доселе неведомых радостей.
Пятнадцатого апреля бабушка, по своему обыкновению, уехала на несколько месяцев в Эршир к своей родне – я уже говорил, что год она делила поровну: осень и зиму проводила в Ливенфорде, а весну и лето – «пору цветения и произрастания» – в Килмарноке.
За это время мы с ней весьма продвинулись в выполнении религиозных обрядов. Никто – повторяю, никто – не мог бы с большей деликатностью, чем бабушка, вести себя по отношению ко мне. Она была ревностным членом маленькой, но весьма деятельной секты, в которую ее ввел покойный супруг, была глубоко убеждена, что следует истинной вере, и тем не менее ни разу не пыталась навязать мне свои взгляды. И ни разу не перешла она границ терпеливого ожидания. Самые решительные действия она предпринимала по воскресеньям после обеда: уводила меня к себе в комнату, и там, примостившись у ее ног, я читал вслух избранные места из Библии. Одобрительно кивая и слегка покачиваясь в качалке, стоявшей у окна, на стеклах которого сонно жужжали мухи, она слушала рассказ о войне между Саулом и Давидом и, глядя вниз на дорогу, где по воскресеньям местные жители прогуливались до Драмбакского кладбища, посасывала не мягкую мятную лепешку, какие предпочитал безрассудный дедушка, а жесткую кругляшку – «имперскую», которая долго, точно погремушка, позвякивала о ее зубы. (У меня было такое ощущение, что разница в выборе любимых сластей соответствует разнице в характерах моих предков.) Время от времени бабушка прерывала мое чтение и давала мне краткие наставления, как дóлжно жить и каким злом является скрытность, а главное – как твердо надо противостоять Сатане.
Сатана, Нечистый, Люцифер или, как бабушка еще называла его, Чудище был ее личным врагом, который только и делает, что скалит зубы, стараясь укусить за локоть Праведника, и поскольку ее суровая вера незаметно подкрепляла те познания в этой области, которые я почерпнул в детстве, дьявол приобрел в моих глазах пугающую реальность.
Зимними вечерами, когда бабушка отправлялась к своим единоверцам, я обязан был принести в постель глиняный кувшин-грелку с горячей водой, который она называла «гушинчиком», и если она не возвращалась к восьми часам, то я раздевался и ложился спать один. Надо сказать, что на верхнем этаже вообще было мало света, да и дедушка частенько уходил из дому – только не в церковь, конечно. И вот, лежа в темной, полной шорохов спальне, окруженный со всех сторон призрачными, угрожающе надвинувшимися стенами с потрескивающими деревянными панелями, я чувствовал каждым нервом, напряженным до предела, что, кроме меня, в комнате еще кто-то есть. Нечистый был тут – он прятался под бабушкиной вешалкой, – и стоит мне немножко ослабить внимание, как он прыгнет на меня.
Долго я лежал неподвижно, весь напрягшись и затаив дыхание, и наконец не выдерживал. Под природной застенчивостью у меня все-таки таилось немножко храбрости – я выскакивал из постели и подбегал к страшному шкафу. Я останавливался перед ним – маленькая белая фигурка с подгибающимися коленями, освещенная слабым блеском уличного фонаря, – и дрожащим голосом взывал:
– Вылезай, Сатана! Я знаю против тебя слово – ты со мной ничего не сделаешь.
И, трижды перекрестившись, как положено, я распахивал дверцу. На секунду сердце у меня переставало биться… Но нет, в шкафу ничего не было видно – ничего, кроме смутных очертаний бабушкиных платьев. Облегченно всхлипнув, я поворачивался и с размаху бросался на кровать.
Бабушка понятия не имела об этих моих ночных страхах и, мне кажется, была вполне довольна своим умелым обращением с моим слабым и несознательным духом. Собираясь в Килмарнок, она надела новый чепец, сунула мне в руку шестипенсовик и, выудив у меня обещание принимать лекарство, многократно повторив, что надо «быть стойким», пробормотала:
– Когда я вернусь, мой ягненочек, мы решим, как нам с тобой быть.
Сердце мое было полно теплых чувств к бабушке. И все-таки, как ни странно, после ее отъезда я вздохнул свободнее, особенно когда мама перевела меня на койку, отгороженную занавеской от кухни. О, сладостное ощущение своего отдельного уголка – ведь у меня теперь была все равно что собственная комната!
Дедушка, казалось, тоже почувствовал себя свободнее. Первым делом он взял большую бутылку с лекарством, которую оставила мне бабушка, и, как всегда загадочно улыбаясь, выбросил ее из окна. Папоротник, который рос на лужайке внизу, сразу пожелтел и завял; увидев это, Мэрдок буркнул с мрачным видом – совершенно, впрочем, ошибочно – что-то насчет дедушкиных привычек.