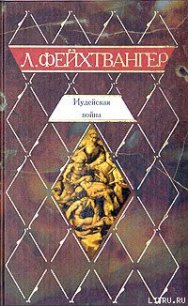Настанет день. Братья Лаутензак - Фейхтвангер Лион (читаем книги онлайн бесплатно полностью txt) 📗
Ясно одно: перед этим фокусником фюрер держал торжественные речи. Не подлежит сомнению, что приведенные Лаутензаком слова принадлежат Гитлеру, — нельзя не узнать его напыщенной манеры.
Но, уж во всяком случае, эти слова Гитлера не подлежат оглашению, — при этой мысли лицо Цинздорфа прояснилось. «Вы меня щелкнули по носу, милый мой Оскар, это так. Но, пожалуй, этот триумф — величайшая из глупостей, совершенных вами».
Цинздорф удобно сидел в кресле, закинув ногу на ногу, прикидывал, соображал. Эти цитаты надо опубликовать. Пусть их прочтут люди, которых это касается, — Кадерейт, бывший рейхсканцлер. Они зашевелятся, подымут шум. Если человек не умеет бережно обращаться с тем, что ему доверил фюрер, то он совершил государственную измену, а Гитлер быстро расправляется с теми, кто обвинен в государственной измене. Да, вот это и есть решение.
Задача нелегкая — напечатать статью, в которой ничего не сказано и сказано все, статью, которая содержит неоспоримо подлинные цитаты. Но когда Цинздорф чего–нибудь по–настоящему хочет, он не только любезен, но и ловок.
Статья появилась. Статью поняли. Аристократы возмутились.
С напускной гримасой сожаления Цинздорф положил статью на стол начальника штаба. Проэль прочел. Проэль задумался.
— Я все понимаю, — сказал он, подводя итог своим размышлениям, — но я не понимаю одного: как это попало в газету. Наш циркач — гений и, следовательно, глуп. Но не настолько же он глуп, чтобы выкрикивать такие вещи и распространять их в количестве пятисот тысяч экземпляров.
— Господин начальник агентства печати, — невинно доложил Цинздорф, тоже не понимает, как это случилось. Он в панике позвонил мне и потребовал, чтобы я посадил в концлагерь редактора, пропустившего статью. Я, разумеется, сделал это.
Проэль пристально взглянул на своего Цинздорфа. Взял его руку, узкую, сильную, холеную руку.
— Эта рука тоже участвовала в игре, Ульрих? — спросил он. — Ведь все это ты состряпал. Разве нет?
— Да что вы, начальник! — ответил Цинздорф, но таким тоном, чтобы Проэль понял: Ульрих солгал, а вся эта история доставляет ему глубочайшее, жестокое удовольствие.
— Оскар Лаутензак, по–видимому, рехнулся, — продолжал он. — Кадерейт объявил мне, что он больше таких вещей терпеть не станет, да и «покойник» канцлер вне себя. О случившемся будет доложено Гинденбургу. Зигфрид проболтался. Боюсь, что Зигфрида нельзя будет спасти.
— Я тоже этого боюсь, — ответил Проэль.
Смотрите–ка, этот мальчик стал остроумным. Вот, значит, насколько он ненавидит Оскара?! Лицо Проэля стало серьезным. Он постукивал карандашом по лысине. Ему было жаль Гансйорга — он потеряет брата, и жаль Гитлера он лишится друга и прорицателя. Но этот Оскар Лаутензак слишком простодушен. Он слишком неосторожно обращается с даром, которым наделен. Создает себе слишком много врагов. Сначала он замахнулся на него, Проэля, а теперь разглашает тайны, доверенные ему Адольфом Гитлером. Он может доставить партии неприятности. Нет, его не спасти.
В душе Проэля, когда он взвешивал все эти обстоятельства, ожил отголосок того неприятного чувства, которое охватило его, когда он сидел против Лаутензака и этот человек, держа его руку, заглянул в тайники его души. А теперь вот как обернулось дело. Скоро, очень скоро этот человек раз и навсегда лишится возможности заглядывать ему в душу. И на мгновение Проэль возликовал: этот человек, враг, теперь в его руках. Им овладела буйная, неукротимая радость: он его уничтожит, сотрет с лица земли.
Но это не дошло до его собственного сознания и тем более не было показано Цинздорфу. Напротив, тот видел перед собой лишь высокопоставленного сановника, обдумывающего важное решение. Очевидно, это решение было Манфреду труднее принять, чем он, Цинздорф, предполагал; ему даже казалось, что Манфред на него сердится. Но Цинздорф знал, что в конце концов Проэль даст свое согласие.
Проэль положил карандаш.
— У тебя злое, злое сердце, мой милый Ульрих. Мне, я вижу, ничего не остается, как пойти к Адольфу.
Манфред Проэль показал фюреру статью.
Статья Гитлеру понравилась.
— Неплохо, — сказал он. — Эта грозовая туча висит теперь над «аристократами», как дамоклов меч.
— Прости, Адольф, — заметил Проэль, подавляя легкое раздражение. — Я не докучал бы тебе такими пустяками, как чтение статьи, если бы ее можно было оценивать только с точки зрения эмоций. Пойми, прошу тебя, что эта статья — дело политическое.
— Я нахожу, — настаивал Гитлер, — что повесить такой дамоклов меч над «аристократами» только полезно.
— Это им полезно, — ответил Проэль своим скрипучим голосом, — но совсем в другом смысле. Мы с ними в союзе. Мы связаны соглашениями. Эти угрозы нарушение заключенного с ними договора. Доктор Кадерейт созвал нечто вроде военного совета. «Покойный» канцлер и его присные заявили, что ни в коем случае не будут больше мириться с такими вещами.
— С чем это они не будут мириться, эти наглецы, эти свиньи? — мрачно спросил канцлер.
— С твоими угрозами, — ответил начальник штаба. — Пожалуйста, не обманывай себя насчет серьезности этого дела, Адольф. Господа «аристократы» стучат кулаком по столу и кричат, что мы во всеуслышание заявили о своем намерении нарушить слово. Они могут использовать Гинденбурга.
— Мое имя же не названо в статье, — недовольно сказал Гитлер.
— Имя Лаутензака тоже не названо, — ответил Проэль. — Но фразы, содержащие угрозы, и твой неповторимый немецкий язык — с головой выдают автора. Не может быть никаких сомнений и в том, что разгласил их Лаутензак. Адольф, ты от этого не отвяжешься, тебе придется сделать недвусмысленное заявление.
— Что это значит «недвусмысленное»? — высокомерно и неприязненно спросил Гитлер. — «Недвусмысленное» — это нечто чуждое немецкому языку. Заявления Гете не были недвусмысленными.
— Так ведь он был поэт, — нетерпеливо сказал Проэль.
— Он был и министр, — настаивал канцлер.
— Адольф, — ласково уговаривал его Проэль, — не обманывай себя. Вникни в суть дела. Ты должен отречься от этого болтуна. Решительно. Раз и навсегда.
Фюреру было не по себе. Болтать — это со стороны Лаутензака безответственно, и сделай это кто–нибудь другой, разговор с ним был бы короткий. Но Лаутензак — ясновидец. От него нельзя требовать, чтоб он был нем как могила. Видения и высокопарные речи неразрывно связаны друг с другом — это он сам знает лучше, чем кто–либо. Когда сердце полно, уста глаголят. То, что для другого было бы государственной изменой, для ясновидца Лаутензака простительный грех. И из–за таких пустяков «отречься» от друга? Вечно у него хотят отнять то, что его радует. Нет, не выйдет. Он не пожертвует другом и ясновидцем молоху отечества.
— Я провел с Лаутензаком часы возвышенного созерцания, — упрямо сказал он. — Ему ясно во мне многое, что скрыто для других.
— Мне понятно, что ты ему симпатизируешь, — отозвался Проэль. — В нем что–то есть, я сам это испытал. Но он чудовищно наивен, и его дружба для государственного деятеля — тяжелая обуза. Ты же видишь, он не в состоянии держать язык за зубами, этот Зигфрид, — повторил он довод Цинздорфа. — Ты должен от него отречься.
В душе Гитлера шла жестокая борьба. Сравнение с Зигфридом понравилось ему; он наслаждался трагической ситуацией, в которую снова попал. Но и мучился ею. Он тяжело дышал, потел.
— Я готов, — заявил он наконец, — отвернуться от Лаутензака, хотя он этого не заслужил. Я готов заявить господину Кадерейту, что тут произошло недоразумение.
— Полусловами тут не отделаешься, — сказал Проэль. — Сам Гинденбург потребует от тебя объяснений и новых торжественных заверений. Будут настаивать, чтобы все это происходило публично, открыто, при свете прожектора. Если ты намерен спасти Лаутензака, тебе не обойтись без неприятной сцены со стариком.
Гитлер — а этого и добивался Проэль — вспомнил тот час унижения, когда он, как побитый пес, стоял перед Гинденбургом. Нет, во второй раз он этого не вынесет.