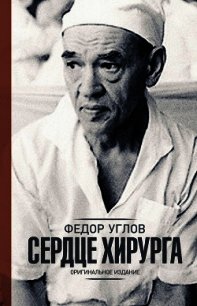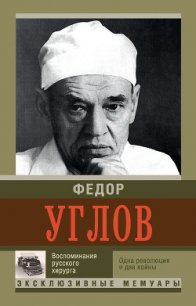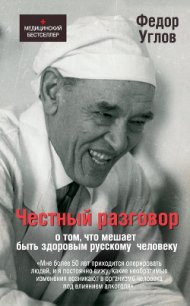Большая книга хирурга - Углов Федор (книги .TXT) 📗
О чем думали мои слушатели в этот момент? Скорее всего о своей бродяжьей судьбе, о той дикой силе, что подхватила их, заставила покинуть родной дом, очутиться среди глухой тайги. Куда дальше ведет дорога, куда? Пушкин волновал их так, словно бы не поэму они слушали, а искреннее признание одного из своих братьев по несчастью.
С неослабевающим напряжением, как перед самой взыскательной аудиторией, я прочитал последнюю строку этой поэмы:
Мои слушатели, как зачарованные, долгое время сидели неподвижно и молчали. Наконец старший из рабочих подошел ко мне и со словами: «Спасибо, друг! Вот ты, выходит, какой!» – крепко пожал мне руку. И другие тесно обступили, услышал я много добрых слов. Просили меня что-нибудь еще почитать… Снова вспыхнул костер, я запел песню, ее дружно подхватили:
Стоит ли говорить, что с этого дня отношение ко мне резко изменилось… А главное, все с нетерпением ждали вечерней стоянки, мы были уже как одна дружная семья, и я с воодушевлением, при общем одобрении, читал стихи Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Кольцова, пересказывал удивительные истории из повестей Гоголя. Пели мы и старинные народные песни. И сколько раз после убеждался я в великой облагораживающей силе литературы: даже самые, казалось бы, черствые, загрубевшие сердца сдаются перед истинной поэзией!
– Ну, студент, – сказали мне при прощании мои товарищи по сплаву, – уважил ты все наше общество. Учись дальше, Федор, и людей хорошему учи!..
Расстались мы с сожалением и надеждой, что в будущих странствиях по Сибири когда-нибудь еще невзначай свидимся…
Отчий дом в Киренске после иркутской жизни показался мне маленьким, и я впервые подумал: к родителям старость подкрадывается, успеть бы сделать что-нибудь для них, не знавших никогда отдыха. И было так уютно, так славно сидеть за знакомым с детства обеденным столом, слушая неторопливые рассказы о киренских новостях…
И на следующий год, досрочно сдав экзамены, я так же, сплавным рабочим, добирался до родимого городка. А поскольку за спиной у меня было уже два университетских курса, киренский хирург Василий Дмитриевич Светлов охотно взял меня на лето дежурным фельдшером.
Ничего я еще толком не знал и не умел. Приободрил опытный фельдшер, дал некоторые советы. Да и сам я жадно присматривался, как он обращается с больными…
Однажды глубокой ночью, во время моего дежурства, привезли такого больного, что я не знал, чем помочь ему, а вызвать хирурга стеснялся: знал, что он поздно ушел из больницы, день у него был тяжелый. Родственники настаивали, чтобы я непременно пригласил Светлова, говорили, что больному час от часу хуже. Я это тоже видел и в конце концов, растерянный в своей беспомощности, сказал им: позвать доктора не могу, а если они хотят, пусть сами идут за ним…
Когда Василий Дмитриевич осмотрел пациента и сделал все, что требовалось, он, несмотря на поздний час, на то, что до крайности устал, посчитал нужным тут же побеседовать со мной. Он говорил, что мы – врачи, и этим уже все сказано. Я должен был не родственников посылать, а сам немедленно вызвать его, ибо промедление в помощи больному грозит непоправимым несчастьем… А что на свете невосполнимее человеческой жизни? Мне было стыдно, щеки мои пылали, и мудрые слова старого доктора памятны поныне…
Уверенность в себе появилась только после третьего года обучения, когда нас познакомили с клиникой некоторых заболеваний, прочитали нам курсы общей хирургии и терапии. И хотя слабой была эта уверенность, но крепло чувство: я – медик. Летом уже мог поступить на пассажирский пароход судовым врачом: снимал пробу кушаний на камбузе, следил за санитарным состоянием помещений, оказывал помощь при травмах, делал медицинский осмотр принимаемых на работу. И нравилось, когда ко мне обращались, называя доктором.
На несколько дней заглянул я в Киренск и, возвращаясь обратно в Иркутск, пообещал родным, что снова увидимся скоро, на будущее лето обязательно приеду работать в киренскую больницу уже опытным фельдшером, почти врачом. Однако обстоятельства сложились так, что в Киренск я вернулся только через семь лет.
В основе своей обучение будущей профессии в университете тех лет строилось так же, как это делается сейчас в нынешних медицинских вузах. Разумеется, мы получали для себя меньше специальной информации, чем может взять ее у преподавателей современный студент, – медицина-то за эти годы шагнула далеко вперед! Разница была в одном: мы учились в двадцатые годы, первые годы жизни Советского государства, когда шла борьба за новые отношения, за новую социалистическую культуру. Яростный отпор получали у нас любые попытки пригладить или незаметно протащить в студенческой среде буржуазные тенденции. Наверно, в чем-то мы бывали излишне категоричны, однако чаще всего такой категоричности в решении вопросов требовало само время.
Некоторую растерянность почувствовали мы, когда крикуны из «сверхактивистов» начинали издеваться над тем, что всегда было дорого и свято истинно русскому человеку: над Пушкиным, Лермонтовым, Толстым. Называли их дворянами и буржуазией и под треск «пролетарских» лозунгов требовали вычеркнуть их из учебников русской литературы. Особенно ясно обнажились позиции каждого, когда кое-где проросли и дали всходы семена троцкизма, и в университете закипели ожесточенные споры… Прикрываясь звонкой левой фразой, последователи Троцкого требовали пересмотра всего и вся, ставили под сомнение правильность ленинской позиции. Их нападкам, неприкрытой травле подвергались те, кто не поддавался «перевоспитанию», не признавал путаных тезисов Троцкого. И поскольку я был в числе непримиримых, то вскоре испытал на себе холодную расчетливость ударов троцкистской группки, занявшей руководящие посты в нашей университетской комсомольской организации.
Однажды после бурного диспута, на котором четко выявились политические позиции каждого из участников, меня вызвали на заседание комитета комсомола. С удивлением узнал я, что будет разбираться мое персональное дело, а больше всего удивился тому, что вести заседание поручено одному из моих частых противников по дискуссиям. Это был крикливый рыжий парень по фамилии Гросс. В его выступлениях мелкобуржуазные взгляды ловко маскировались высокими и дорогими каждому из нас понятиями: «революция», «диктатура», «интернационал», «социализм», – произносимыми к месту и не к месту через два слова на третье…
– Всех заботит грядущая мировая революция, – сказал Гросс, – а Углова волнует личное благополучие. Его летние поездки на Лену за длинным рублем я квалифицирую как шкурничество.
– Тебе штиблеты и модные штаны папа, наверное, купил, – ответил я. – А мне только тяжелый физический труд на речном сплаве дает возможность учиться зимой. Кроме того, там, среди рабочих, я никогда не забываю, что я – комсомолец.
– Кто за то, чтобы исключить Углова из комсомола? – словно не слыша меня, сказал Гросс. – Мотивировка: за игнорирование святых требований мирового революционного движения.
Сейчас, читая про это, кто-нибудь, вероятно, улыбнется: за такое обвинение и сразу исключить? Мне же тогда было совсем не до смеха: можно было остаться за дверями университета, и понадобилось бы много времени, чтобы доказать свою правоту… Гросс со своими единомышленниками и рассчитывал на подобное. Лишь вмешательство партийного секретаря Ивана Васильевича Соснина помешало ретивым «активистам» расправиться со мною и другими комсомольцами…
А на четвертом курсе произошло памятное до сих пор, приятное событие – поездка группы отличников учебы в Ленинград. Нас было тридцать человек, и целый месяц провели мы в путешествии: две недели ушло на дорогу, другие две были отданы знаменитому городу на Неве… Он восхитил нас своей неповторимой красотой, величавой строгостью, и, уже тогда, еще не зная, что долгие годы буду жить здесь, я навсегда был покорен широкими проспектами, каменными набережными, удивительными мостами. Тут во всем ощущалось дыхание русской истории! Сенатская площадь, Петропавловская крепость, Смольный, Зимний… Был январь, город как бы плавал в синей дымке, нежданная оттепель убрала с улиц весь снег – лужи, лужи! Мы прыгали через них в разбухших от сырости сибирских валенках, лишь развевались полы наших солдатских шинелей и овчинных полушубков, и было такое чувство, будто мы внезапно встретились с весной. Это весеннее настроение мы увозили с собой в заснеженный Иркутск. Уже тогда, еще бессознательно, я попытался породнить их в самом себе – мою Сибирь и Ленинград.