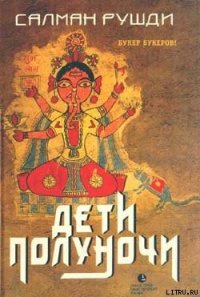Шаг за черту - Рушди Ахмед Салман (лучшие книги txt) 📗
Нация либо принимает своих величайших писателей в объятия (Шекспир, Гёте, Камоэнс, Тагор), либо старается их сгубить (изгнание Овидия, ссылка Шойинки). Обе судьбы неоднозначны. Почтительное молчание литературе вредит: великие произведения находят громкий отклик в умах и в сердцах. Кое-кто полагает, будто гонения идут писателям на пользу. Это неправда.
Остерегайтесь писателей (и писательниц), провозглашающих себя голосом нации. Заменой нации могут выступать раса, пол, сексуальная ориентация, электоральные предпочтения. Это — Новый От-именизм. Остерегайтесь от-именистов!
Новый От-именизм требует духовного подъема, делает упор на позитиве, навязывает свою мораль. Он отвергает трагическое восприятие жизни. Литература для него политика, и только, ничего более, и потому литературные ценности он подменяет политическими. Новый От-именизм — убийца мысли! Остерегайтесь!
«Учтите: паспорт у меня зеленый» [50].
«Америка, я подставлю тебе свое плечо, какой я ни есть» [51].
«Выковать в кузне моей души несотворенное сознание моего рода» [52].
Албания Кадаре, Босния Иво Андрича, Нигерия Ачебе, Колумбия Гарсиа Маркеса, Бразилия Жоржи Амаду. Писатели не способны отринуть притяжение нации: ее приливные волны у нас в крови. Писательство — это нанесение на карту, картография воображения (Imagination). (Или, как определила бы современная критическая терминология, образ нации — Imagi/Nation.) У лучших писателей, впрочем, карта нации превращается также в карту всего мира.
История стала предметом спора. На осколках Империи, в век сверхдержав, под «пятой» предвзятых упрощений, направляемых на нас со спутников связи, мы более не в состоянии с прежней легкостью приходить к согласию относительно того, какими были события на самом деле — и уж тем более истолковать их значение. Литература тоже вступила на этот ринг. Историкам, медиа-магнатам, политикам это вторжение безразлично, однако литература упорно стоит на своем — и так просто от нее не отмахнуться. В этой неясной атмосфере, на этой истоптанной почве, в этих мутных водах ей есть над чем потрудиться.
Национализм извращает и писателей. Vide [53] отвратительное вмешательство Лимонова в войну на территории бывшей Югославии. Во времена еще более узко понимаемого национализма и отгораживающегося от мира трайбализма писатели принимаются вдруг издавать боевые кличи своих племен. Писателей всегда притягивали закрытые системы. Вот почему так много внимания уделено в литературе тюрьмам, полицейским участкам, больницам, школам. Является ли нация закрытой системой? В настоящий исторический момент, когда межнациональное общение стало нормой, может ли какая-то система оставаться закрытой? Национализм — это «бунт против истории», который силится закрыть то, что держать закрытым уже нельзя. Нельзя обнести забором место, которое не должно иметь границ.
Настоящая литература исходит из того, что у нации границ нет. Писатели, которые эти границы оберегают, не писатели, а пограничники.
Литература столь же часто обращается к нации, сколь и отворачивается от нее. Интеллектуал, сознательно отказавшийся от корней (Найпол), видит мир так, как только может видеть его независимый ум: писатель отправляется туда, где что-либо происходит, и посылает репортажи с места события. Интеллектуалы, лишенные корней насильственно (в этот разряд попадают в наши дни многие из лучших арабских писателей), также отвергают замкнутые пространства, которые отвергли их. Подобная неукорененность — огромная утрата, огромная мука. Но и приобретение. Нация без границ не плод фантазии.
Многим настоящим произведениям общественная арена не нужна. Их боль проистекает изнутри. Для Элизабет Бишоп общественное — ничто. Ее тюрьма, ее свобода, предмет ее поэзии — повсюду.
Влияние
«Разговоры — самый настоящий враг писательских занятий», — утверждает австралийский романист и поэт Дэвид Малуф. Особенную опасность он видит в том, чтобы разговаривать о книге, находящейся в работе. Когда пишешь, рот лучше всего держать закрытым, чтобы слова вытекали не через него, а через пальцы. Перегородив реку слов плотиной, получаешь гидроэнергию литературы.
Поэтому я предлагаю повести речь не о моих сочинениях, а о прочитанных мною книгах, и в первую очередь об итальянской литературе, во многом сформировавшей мои представления о том, как и что писать (должен буду затронуть тут и итальянский кинематограф). Иными словами, мне бы хотелось поговорить о влиянии.
Влияние. Само это слово рождает мысль о чем-то текучем, о каких-то «вливаниях». И это правильно — хотя бы потому, что мир воображения всегда представлялся мне не материком, а океаном. На волнах этого безбрежного океана, пугающе свободный, писатель пытается голыми руками устроить чудо превращения. Подобно сказочному персонажу, которому поручено спрясти из соломы золотую нить, писатель изобретает способ, как свить потоки воды, чтобы они обратились в землю, и тогда текучее вдруг обретет твердость, расплывчатое — очертания и под ногами у него возникнет почва. (Если его постигнет неудача, он, разумеется, утонет. Сказка, как никакая другая из литературных форм, не прощает ошибок.)
Молодой писатель, робкий или честолюбивый, а то и робкий и честолюбивый сразу, вглядывается в глубину: не поможет ли что? — и видит, как в океанском течении змеятся подобия канатов, это дело рук прежних ткачей, волшебников, проплывавших здесь до него. Да, он может воспользоваться этими «вливаниями», ухватиться за них, свить на их основе нечто свое. Теперь он уверен, что не утонет. И рьяно берется за дело.
Одно из наиболее примечательных свойств литературного влияния, этих полезных потоков чужих сознаний, состоит в том, что они могут притечь к сочинителю откуда угодно. Часто они проделывают немалый путь, прежде чем попасть к тому, кто сумеет ими воспользоваться. В Южной Америке я был поражен тем, насколько хорошо латиноамериканские писатели знакомы с книгами бенгальца Рабиндраната Тагора, нобелевского лауреата. Благодаря издательнице Виктории Окампо, которая была знакома с Тагором и восхищалась им, они хорошо переведены и широко растиражированы на этом континенте, и потому влияние Тагора ощущается в Южной Америке даже сильнее, чем у него на родине, где его сочинения нередко читают в плохих переводах с бенгальского на другие языки Индии и судят о его таланте только понаслышке.
Еще один пример — Уильям Фолкнер. Великого американского писателя нынче мало читают в Соединенных Штатах, и лишь немногие из современных американских авторов включают его в список тех, кто на них повлиял или чему-то их научил. Я как-то спросил Юдору Уэлти, еще одного замечательного писателя, представляющего американский Юг, помогал ей Фолкнер или мешал. «Ни то, ни другое, — ответила она. — Это как знать, что поблизости находится высокая гора. Приятно осознавать, что она есть, но в твоей работе она тебе ничем не помогает». Но за пределами Соединенных Штатов — в Индии, Африке, в той же Латинской Америке — местные писатели, говоря о том, кто подтолкнул их к литературным занятиям, дал силы и вдохновение, упоминают Фолкнера чаще, чем других американцев.
50
Строчка из стихотворения ирландца Шеймуса Хини. Отдав свои стихи издательству «Пингвин» для сборника «Открытое пространство», поэт обнаружил, что книга вышла под названием «Современная британская поэзия», и порядком рассердился.
51
Последняя строчка из стихотворения «Америка» Аллена Гинсберга (1926–1997), сына львовского эмигранта первой волны, поэта поколения битников.
52
Джойс Джеймс. Портрет художника в юности / Пер. М. Богословской-Бобровой // Иностр. лит. 1976. № 10–12.
53
Смотри (лат.) — форма отсылки.