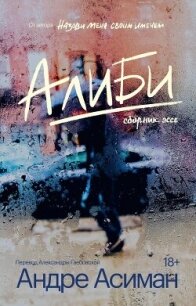Восемь белых ночей - Асиман Андре (книги полные версии бесплатно без регистрации .txt, .fb2) 📗
– Ты ведь не серьезно? – спросила Клара.
Я хмыкнул. Человек, грозивший, что умрет ради нее, явно был не единственным.
– За Пуха! – предложил Ганс. – За Пуха и за всех вороватых стряпчих на этой планете, да приумножится род их. – Мы чокнулись. – Вот, раз, еще раз! – провозгласил он.
– И еще много-много раз, – откликнулась Клара – это явно был привычный тост в их мирке.
За Пуха, который, не посети его такая причуда, подумал я, мог и не переслать мне это приглашение, и не было бы вечера, который опутал мою жизнь такими чарами.
Я – Клара, я тебя обновлю. Я – Клара, я покажу что и как. Я – Клара, я отведу тебя туда и сюда.
Я смотрел, как один из поваров за спиной у Ганса открывает большие банки – похоже, с икрой. Он, кажется, злился на банки, на открывашку, на икру, на кухню – и выгребал оттуда ложку за ложкой. Его подход навел меня на мысль о Кларе. Она выгребет из вас все подчистую, подарит вам новую внешность, новое сердце, новое все. Но для этого придется вонзить в вас одну из этих открывашек, которые изобрели невесть когда, задолго до модели с колесиком: сперва – резкий прокол, а потом требующее сноровки, дотошное, терпеливое кровопускание, нажим и продвижение острого зазубренного лезвия вверх, вниз, вверх, вниз, пока оно не опишет круг и не отъединит вас от самого себя.
Больно будет?
Вовсе нет. Эта процедура всем страшно нравится. Больно – когда тебя вытащили, а рука, оторвавшая тебя от тебя, исчезла. А потом – ключ для вскрытия банок с сардинами, когда жестяная крышка скручивается, точно старая кожа при линьке, льнет к сердцу, как кинжал к убитому.
Я знал: чтобы изменить ход жизни, нужно больше чем вечеринка. Но даже без этой уверенности, да и без желания знать наверняка – мне было страшно, что я окажусь неправ, – без попытки оставить в мозгу кропотливые пометки для дальнейшего осмысления, я понял, что ничего не забуду, начиная от поездки в автобусе, туфелек, прохода мимо оранжереи в кухню, где Ганс указал сперва на нее, потом на меня, а потом снова на нее, от выдуманной истории про попытку самоубийства и угрозы провести вечер в камере до Клары, которая мчится в полицейский участок, чтобы вытащить меня оттуда прямо в рождественскую ночь, и выхода в ледяную стужу за стенами участка, где она спросит: «Больно было в наручниках, да? Ну давай разотру тебе запястья, поцелую тебя в запястья, твои запястья, бедные милые исстрадавшиеся богоданные саднящие запястья».
И это я заберу с собой, как заберу и тот миг, когда Ганс, которому понадобилось сбежать с собственной вечеринки, попросил Жоржа, не будет ли тот bien gentil, не положит ли еду на три тарелки и не принесет ли их наверх, dans la serre[11]. Ибо в этот миг я понял, что мы отправимся в оранжерею и я окажусь ближе, чем был когда-либо, к Кларе, лучу прожектора, звездам.
– Однако, – заявил Ганс, вставая и выпуская нас из кухни впереди себя, – готов поклясться, что вы знакомы уже давным-давно.
– Вряд ли, – сказала Клара.
Я не в первую же секунду понял, что ни она, ни я не верим в то, что знакомы лишь несколько часов.
Ганс зажег свет в оранжерее. Там на застекленной полуверанде-полутеплице нас дожидался круглый столик с тремя тарелками, на которых замысловатыми арабесками была разложена еда. Поблизости стояло ведерко со льдом, кто-то поместил в него бутылку – горлышко ее опоясывала белая салфетка. Я с внутренним трепетом подумал: возможно, это одна из принесенных мною бутылок, с подачей их на стол повременили до настоящего момента. Здесь все происходит как по волшебству. Я развернул салфетку – внутри оказались серебряная вилка, серебряный нож и ложка с инициалами, выгравированными в пышном старомодном стиле. Чьи? – шепнул я Кларе. Его бабушки с дедушкой. Спаслись от нацистов. «Спасшиеся евреи, как и мои», – сказала она. Как и мои, хотел было я добавить, особенно после того, как развернул салфетку и припомнил родительские вечеринки в это примерно время года, где все перебирали с вином на дегустации, а потом мама говорила, что пора садиться ужинать. Позабытые души, чьи пышные инициалы красовались на нашем столовом серебре, так и не пересекли Атлантику и уж всяко не слышали про Сто Шестую улицу, про парк Штрауса и про все эти грядущие поколения, которые потом унаследуют их ложки.
Вокруг стояло три столика, накрытых, но без еды. Прекрасное место, чтобы завтракать каждое утро. Слева от меня красовался сухой букет: специи, лаванда, розмарин, повсюду – ароматы Прованса.
Я уставился на белую скатерть, крахмально-гладкую – похоже, что ее выстирали, отгладили и сложили очень старательные руки.
– Так как, напомните, вы познакомились?
– В гостиной.
– Нет, – сказала она, прежде чем снова утвердить свой локоть на моем плече. – В лифте.
Тут я вспомнил. Ну конечно. Я действительно заметил кого-то в лифте. Помню швейцара, который проводил меня до кабинки и, просунув крупную руку в форменной куртке за дверную панель, нажал нужную кнопку, и я ощутил себя одновременно важной птицей и бестолочью в глазах женщины в темно-синем пальто, которая деловито топала, стряхивая с обуви снег. Я поймал себя на мысли: хорошо бы она оказалась среди гостей, – но желание увяло, когда она вышла несколькими этажами раньше. Я был до такой степени уверен, что больше никогда ее не увижу, что до меня решительно не дошло, что женщина, сидящая сейчас рядом со мной в оранжерее, – та самая, чьи глаза (теперь воспоминание возвращалось) смотрели на меня в упор, шипя нечто среднее между: «Даже и не думай об этом!» и «Мы чего, и не поболтаем, да?» Может, Клара представилась мне в квартире потому, что решила: лед был сломан еще там, в лифте? Или все хорошее происходит со мной только после того, как я сам от него откажусь? Или звезды сходятся правильным образом только тогда, когда мы слепы к их указаниям, или, как оно бывало с оракулами, язык их всегда темен?
А мы говорили в лифте? – осведомился я.
Да, говорили.
И что было сказано?
– Ты высказался в том смысле, что странно видеть на Манхэттене здание, где есть тринадцатый этаж.
Как она ответила?
А такая неуклюжая попытка познакомиться требует ответа?
А что, если бы я не спросил про тринадцатый этаж?
Вопрос Третьей Двери. А я тебе уже говорила – я с ними нынче пас.
Так она шла на другую вечеринку в том же здании?
Она в том же здании живет.
Я здесь живу. В первый момент это прозвучало как «Я здесь живу, тупица». Но потом я разом сообразил, что это прозвучало как очень интимное признание, как будто я своим вопросом загнал ее в угол, причем угол этот – те самые четыре стены, в которых протекает ее жизнь, с Инки, там ее одежда, сигареты, пемза, ноты, обувь. Она живет в этом доме, подумал я. Вот где живет Клара. Даже ее стены, от которых у нее нет тайн и которые слышат всё, когда она остается с ними четырьмя наедине, разговаривает с ними, потому что они далеко не так глухи, как это принято считать у людей, знают, кто такая Клара, тогда как я, Инки и все те, кто причиняет ей муки-мученские, не имеют ни малейшего понятия.
Я здесь живу. Как будто она наконец-то призналась в чем-то, чего я никогда бы не узнал, не будь она вынуждена об этом сказать, – отсюда слегка обиженное подвывание в голосе, в смысле: «Да я и не делала из этого тайны, чего ж ты раньше не спросил?»
Но тут все вдруг предстало иным. А вдруг Инки отправился туда, домой, а не отбыл в Дарьен? Может, сидит внизу и дуется? Где ты все это время была? Наверху. А я ждал, и ждал, и ждал. Так не надо было уходить с вечеринки. А ты знала, что я буду ждать. Чего ж ты не поехал в Коннектикут? Слишком сильный снегопад. Переночуешь нынче? Угу.
– Минутку, – сказал Ганс. – Вы хотите сказать, что пили вместе и при этом не знали, что уже познакомились в лифте?
Я кивнул – беспомощно, неубедительно.
– Не верю.
Я почувствовал ток крови в кончиках ушей.